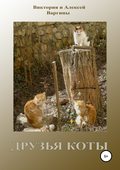Виктория и Алексей Варгины
Солнечная тропа
ДОМА ЛУЧШЕ
Лёнька сидел на подоконнике в своей спальне и смотрел в вечернее небо. Сначала оно было пустым, как гигантская перевёрнутая чаша с сине-фиолетовым дном. А затем высоко над садом, размытым ленивыми сумерками, зажглась первая звезда и приковала к себе взор мальчика.
Чем больше смотрел Лёнька на эту единственную, безумно отдалённую от него звезду, тем меньше и затерянней представлялся он сам себе, вместе с бабушкиным домом, вместе с Песками и даже вместе со всей Землей, которая была такой же маленькой светящийся пылинкой в океане космоса. Лёньке казалось, что он стремительно теряет самого себя в этих необъятных просторах, что вот ещё одно мгновение – и он окончательно исчезнет…
Но произошло совершенно обратное: что-то внутри Лёньки вдруг стало расти, расширяться во все стороны… Оно сделалось больше Лёнькиного тела и уходило дальше и дальше, за пределы видимого, в бесконечность… Мальчик становился всем, что вмещало в себя его сознание: маленькой деревней и всем человечеством, безымянной звездой и межзвёздным пространством… Всё это было рядом, всё было едино и свободно текло через Лёньку, принося чувство полноты и завершённости. Времени больше не существовало. Волны безбрежного покоя и блаженства несли Лёньку, как огромные крылья нежности.
Он не знал, сколько продолжалось это невероятное путешествие, но когда вернулся к себе в комнату, за окном светилось уже много звёзд и отыскать среди них ту, первую, было невозможно.
Внезапно Лёнька понял, что в его комнате что-то изменилось, в ней угадывалось чьё-то присутствие.
– Хлопотун, – позвал Лёнька.
– Да, – ответил шелестящий голос, – я не хотел тебе мешать…
– Я смотрел в небо, – проговорил мальчик. Больше он не мог ничего сказать.
– Знаю, – молвил Хлопотун. – Если ночью долго смотреть в небо, можно улететь в такую даль… И если хоть однажды улетишь, это обязательно повторится ещё и ещё…
– Откуда ты знаешь? – поразился мальчик. – Ты что, летал? Домовые летают?
Не ответив, Хлопотун обнял Лёньку сильными мягкими лапами и снял с подоконника. На миг мальчик уткнулся в его шерстяную грудь и вдохнул смешанный добрый запах деревенской жизни: запах хлева, привяленной травы, запах парного молока…
– Хлопотун, почему ты не приходил вчера? Я тебя ждал… Где ты был так долго? – ласково пенял он, поглаживая тёплую барашковую шерсть.
– В Харине, – ответил домовой.
– А зачем?
– Помнишь, Пила про ведьму рассказывал?
– Ну и что?
– Вот я и ходил разведать, как там.
– И что ты разведал?
– Плохо дело, – не скрывая досады, ответил Хлопотун. – Ну, да ладно, ты-то как?
– Я хорошо… Ой, ты знаешь, Панамка же уехал в город!..
– Как это уехал? В какой ещё город?
– Он с Мойдодыровым уехал! Мойдодыров утром домой собрался, Панамка и уехал к нему жить!..
Хлопотун всё понял. Он стоял, прядая лошадиными ушами, и молчал. Лёньке сделалось нехорошо от этого молчания. Он ждал, что доможил начнёт ругать его, а отругав, уйдёт и больше никогда не явится к Лёньке.
– Эх, пустой я чугунок! – вдруг безжалостно обругал себя Хлопотун. – Как же я про это не подумал, а?
Лёнька вспомнил, что как раз в последнюю ночь, когда Хлопотун отсутствовал, Панамка и соблазнился идеей переехать к писателю.
– Что теперь будет, Хлопотуша? – виновато спросил он у домового.
– Не знаю, Лёнька… Давай думать, что всё образуется. А больше этого мы с тобой всё равно ничего не сумеем. Ну, пошли к Толмачу.
В доме Толмача было тихо. «Неужели и они куда-то исчезли все?» – испугался Лёнька, проходя через тесные сени. Но четверо домовых были на месте, правда, сидели молча, как-то отъединённо друг от друга и выжидающе смотрели на дверь. Когда она отворилась, Кадило даже вскочил.
– Долгой ночи, добрых дел, – бросил Хлопотун в эту напряжённую тишину.
Кадило, видимо, обманувшись в своих ожиданиях, тут же снова сел и уставился в окно.
– Долгой ночи, – ответил за всех Толмач. – А мы думали, Панамка прибежал. Что-то нету его сегодня…
– Не будет его сегодня, Толмач, – без всяких предисловий сказал Хлопотун. – Панамка в город уехал.
– Что?
– Куда?
– Как уехал?
Лёнька вышел из-за спины Хлопотуна.
– Он к писателю уехал. Он ведь всё время о своём доме мечтал, а магазин это не дом, Панамке там плохо было. Поэтому он и поехал с Мойдодыровым. А иначе он бы умер тут!.. Это я ему сказал, что писатель уезжает, – добавил Лёнька и втянул голову в плечи.
Под тяжёлой лапой Толмача скрипнул стол, хотя старый домовой не шевельнулся. Не нарушал своего обычного молчания и Выжитень. Кадило с непроницаемым лицом продолжал что-то высматривать за окошком. Один Пила не считал нужным сдерживать свои чувства:
– Вот, ещё одного недотёпу в город потянуло! Это после того, как Куличик оттуда без оглядки сбежал! В магазине, значит, ему плохо было, а у писателя на антресолях будет хорошо!..
– Не каркай! – остановил его Хлопотун. – Никто не знает, как ему там будет. Может, и привыкнет ещё…
Пила бросил на него уничтожающий взгляд.
– Ты, Хлопотун, в домашних делах, может, и впрямь дока, но дальше кухни ум твой не идёт.
– А если он вернётся ещё, вернулся же Куличик… – в голосе Толмача Лёнька впервые почувствовал растерянность.
– Не вернётся он, – сказал мальчик.
– Почему?
– Боится, что его засмеют.
Все головы, как по команде, повернулись к Кадилу.
– Так вот кого нам благодарить нужно! – с нескрываемым злорадством объявил Пила. – Это из-за тебя, задрипанное помело, Панамка в городе сгинет!.. Все знают, как ты его травил!
Кадило подпрыгнул как ужаленный, вся шерсть у него встала дыбом.
– Врёшь ты! – закричал он не своим голосом. – Никого я не травил! Это ты его вечно пилил за всякие пустяки!..
– Ну чего расходились? – повысил голос Толмач. – Что толку теперь шуметь? Мы все виноваты… А ваша перебранка ему не поможет.
– А что ему поможет? – спросил Лёнька у бывалого домовика.
– Нам всем нужно думать, что Панамке хорошо.
Несмотря на такое указание Толмача, оптимизма в маленьком домике не прибавилось. Здесь каждый знал историю жизни Панамки и опасался за его будущее. Но едва ли не самым подавленным из всех был Кадило. Он сидел, обхватив голову обеими лапами, безразличный ко всему вокруг.
«Знал бы Панамка, как о нём беспокоятся», – думал Лёнька, вспоминая, каким одиноким и отверженным казался домовёнок накануне отъезда.
В эту ночь разговор на посиделках не клеился. Несколько раз Толмач пытался расшевелить домовых, но те упрямо отмалчивались. Даже Хлопотун угнетённо молчал, словно позабыл о том, что думать надо про хорошее. Кадило давно уже не смотрел в окно, за которым разворачивалась феерия ночного сада – расцвеченного луной и звёздными огнями. А посмотри Кадило туда, он мог бы заметить, как от ближних кустов скользнула к дому небольшая тень и притаилась у крылечка.
Минутой позже Выжитень обратился к Лёньке с престранным вопросом:
– Ты говоришь, Панамка в город уехал?
Мальчик даже отшатнулся от него.
– Да или нет? – повторил Выжитень.
– Ну, уехал… Я же сразу сказал, – пробормотал Лёнька в совершенном недоумении: «Спал он, что ли, в своём углу?»
– Никуда он не уехал и не уезжал.
– Ты что? – сурово спросил Толмач. – Что это за фокусы? Зачем это мальчик нам врать будет?
– Какие фокусы, – спокойно ответил Выжитень. – Лёньке просто показалось, что он уехал. Ну, может, привиделось что-то такое… А Панамка и не собирался ни в какой город.
– Ну и где же он тогда?
Выжитень показал на дверь:
– Там и стоит. Сейчас войдёт.
Домовые и Лёнька уставились на дверь так, что она вполне могла открыться от их взглядов.
– Ну, заходи, чего стоишь? – настойчиво, но вместе с тем мягко, почти просительно позвал Выжитень, и дверь отворилась.
В дверном проёме стоял Панамка, не осмеливаясь войти в горницу. Лёньке он почему-то показался ещё меньше, чем был на самом деле.
– Где ты был? – спросил Толмач, стараясь казаться грозным, но в его голосе явно не хватало твёрдости. Тем не менее Панамка затрепетал. Он беспомощно посмотрел в глаза Лёньке, потом Кадилу, Выжитню…
– В Раменье он был, – ответил за Панамку Выжитень тем же уверенным тоном, каким сообщил, что домовёнок стоит за дверью. И, предупреждая дальнейшие расспросы, продолжил:
– Он на писательской машине прокатиться решил, когда ещё такой случай представится? Так, Панамка?
Домовёнок кивнул, с мольбою глядя Выжитню в глаза.
– Ну, доехал до Раменья и вылез, – усмехнулся Выжитень. – Потом ещё пошатался по селу, поглазел и – обратно в Пески.
Толмач недоверчиво переводил взгляд с Выжитня на Панамку.
– А чего заходить боялся? – спросил он у последнего.
– Я услышал, как вы говорили, что я… в город сбежал… Я испугался, что вы мне не поверите, – заикаясь, проговорил Панамка. Он по-прежнему глядел в глаза Выжитню, словно читал по ним.
У Толмача, судя по всему, ещё оставались вопросы, однако он предпочёл их не задавать.
– Ну а чего же ты дальше не поехал? – вдруг медоточивым голосом спросил Кадило. Он уже успел сменить позу, беззаботно развалившись на лавке.
Панамка снова струхнул, он не доверял Кадилу.
– Куда… дальше?..
– Да во Владимирово же! К Мойдодырову в гости. Тебе разве не интересно, как он там живёт?
Домовёнок не знал, куда ему деваться. Совсем неожиданно на помощь Панамке пришёл Пила.
– Если бы он к писателю уехал, то некоторые, – Пила, подражая Кадилу, сделал упор на слове «некоторые», – некоторые бы тут со скуки померли. Они ведь только и делают, что над другими издеваются.
Кадило сразу подобрался, в один миг вся бесшабашность слетела с него, как шелуха.
– Ну, ты сам посуди, что было бы, если б ты к писателю уехал, – уже совсем иначе сказал он. – Там же чужое всё, нашего брата нет, а этот Мойдодыров!..
– Правильно Кадило говорит, – вступил в разговор Хлопотун. – Не место нам в городе, и хорошо, что ты туда не поехал. Ну, хочется тебе собственный дом – иди к писателю на дачу жить.
– На дачу?..
– А чем не дом? Мойдодыров всё время в городе, за дачей присмотреть некому. Или не по нраву она тебе?
– По нраву… – всё ещё робея, ответил Панамка. – А если Мойдодыров не захочет, чтоб я там жил?
– А ты сделай так, чтоб он захотел, – сказал Хлопотун веско. – Мойдодыров ведь не глупый, авось поймёт свою выгоду. А если не поймёт, приходи ко мне жить. Места нам хватит, а хозяйство у меня большое – не заскучаешь.
Лёнька чуть не бросился обнимать Хлопотуна. Подумать только, Панамка будет жить в доме его бабушки!
– Это почему он к тебе должен идти? – ревниво спросил Кадило. – У других что, домов нету?
– Дома-то есть, – не возражал Хлопотун, – только чему его эти другие научат? Над хозяевами своими измываться?
– Ты в эти дела не лезь, – ощетинился Кадило, – ты лучше вообще помолчи. И я помолчу. А Панамка пускай сам скажет, где он хочет жить. Где ему веселее будет?
Лёнька обомлел: ну и Кадило, вот так, за здорово живёшь, взял и перешёл дорогу им с Хлопотуном. Но неужели Панамка выберет дом бабки Долетовой?
Панамка на всякий случай придвинулся к Хлопотуну.
– Я лучше у писателя попробую, – сказал он.
– Правильно, – похвалил его Толмач. – Такой домище без глазу оставлять нельзя, дача это – не дача… А писатель – может, и оботрётся ещё у нас, станет хозяином. А я вот что спросить хотел. Хлопотун, ты часом не в Харине вчера был?
– Угадал.
– Что, о Федосье слухи проверял?
Хлопотун хмыкнул:
– Так глупый слухам верит, умный не верит, а мудрый возьмёт да и проверит.
– Ишь ты! – не удержался Толмач. – Ну, давай говори, чего ты там выходил.
Воспользовавшись тем, что общее внимание переключилось на Хлопотуна, Лёнька подсел поближе к Панамке.
– Как же ты догадался вернуться? – шёпотом спросил он.
Панамка широко улыбнулся:
– Мы ехали, ехали, уже за Раменье выбрались, вдруг мне так грустно сделалось, так стало жалко из Песков уезжать!.. Я ведь ни в одной деревне кроме Песков не задерживался, а тут вот остался да и привык. И магазин мой вспомнил, всё-таки не так уж плохо мне в нём было… Вышел я, да в Раменье задержался: интересно было посмотреть. Хотел до ночи вернуться – не успел…
– Ты что, на ходу из машины вышел?
– Ха! – ответил Панамка.
Он выглядел совсем счастливым теперь, когда вернулся в Пески и был столь великодушно прощён домовыми. Он сиял так, будто наконец нашёл свой дом, а может, так оно и было…
Пока Лёнька и Панамка секретничали, обстановка в горнице снова успела накалиться.
– Ну и что, что ведьма! – услышал Лёнька упрямый голос Кадила. – На каждую ведьму найдётся управа! Я знаю такую траву, против которой ни одна ведьма не устоит.
– Петров крест? – спросил Пила.
– Нет, не крест. Плакун-трава, вот что это такое! Сильнее этой травы ничего нет! Если её в Иванов день на утренней зорьке выкопать, она любую ведьму смирит. Стоит лишь сказать: Плакун, Плакун! Плакал ты долго и много, а выплакал мало…
– Ерунда это, – не дослушал его Хлопотун. – Ничего твой Плакун не сделает.
– Это почему же не сделает? – подозрительно спокойно спросил Кадило.
– Да когда всё это было-то: Плакун, Петров крест…
– А какая разница? – ледяным голосом осведомился Кадило.
– В том и разница, что многое изменилось, – ответил Хлопотун, не обращая внимания на этот тон. – Сто лет назад мужик вешал на хлев убитую сороку и знал, что никакая злыдня туда не сунется. А сейчас? Остановит, что ли, Федосью такая сорока? Да она на неё и не посмотрит.
– Уж это точно, – согласился Пила. – Чихать ей на дохлую сороку. Однако, что же получается? Нету, выходит, нынче силы против неё?
– Сила всегда есть, – произнёс Хлопотун с какою-то непоколебимой внутренней уверенностью. – Только уж это не Плакун.
– Что же это такое? – спросил Толмач.
Несмотря на свое многомудрие, он тоже не понимал, куда клонит Хлопотун.
– Это совсем другая сила, она не в заговорах живёт и не в осиновых кольях…
– Так где же?
– Не знаю, может быть, в сердце…
Внезапно Лёньке открылось то, что хотел сказать домовой. По сути дела, тот всё уже и сказал. Что-то незримое, но очень определённое, какая-то маленькая вибрация вошла в мальчика вместе со словами Хлопотуна и всё прояснила.
Неизвестно, как поняли Хлопотуна остальные, но на Пилу жалко было смотреть.
– Сказал бы ты лучше прямо, – уронил он, – не видать тебе, Пила, невесты из-за этой карги, и не надейся…
Хлопотун же почему-то смотрел на Лёньку – неподвижным испытывающим взглядом, словно что-то прикидывал в уме, но прочитать мысли домового было невозможно.
– Не рано ли ты от невесты отказываешься? – укорил Пилу Толмач. – Бывает, и небо в тучах, и гром погромыхивает, а дождь стороной проносит. Иной раз за пять минут погода переменится. Так, что ли, Хлопотун?
– Да-да, переменится… иной раз, – невпопад отвечал Хлопотун, и Толмач решил поменять тему разговора.
– Эге, а в Песках вот никаких перемен с погодой. И когда будет дождик, никто уже не скажет… Где-то теперь наш Дождевичок?
– А кто это? – спросил Лёнька.
– А это домовой был такой в Песках, у Ветровых жил. Он всегда дождь загодя чуял, за неделю, за две… Да не только дождь, вообще любую погоду. А как чуял, никто не знал. Мы поначалу всё допытывались: расскажи, Дождевичок, как ты это делаешь. Он сперва отнекивался, а потом и говорит: вот если комар просто так летает – это к суху, а если танцует на лету – значит, будет дождь. Вот незадача! Да как же узнать, пляшет он или просто так летает? А в этом, говорит, вся закавыка и есть. Ну, ладно, пущай танцует, а как узнать, когда дождя ожидать – завтра или, может, через неделю? А это, говорит Дождевичок, смотря что он танцует. Ну, мы и поняли, что он заливает. Никаких комариных примет у него не было. А как погоду угадывал, он и сам объяснить не мог. Просто дано ему было.
– А куда он делся?
– Да ушёл из Песков. Ветровы, лет десять тому, в город уехали, а дом на дрова продали. Ничего у него здесь не осталось… Мы его уговаривали: не уходи, повремени, может, наладится ещё всё, не заменимый ты у нас, понимаешь… Так и не уговорили. Чего тут может наладиться, он нам сказал, мне отсюда наоборот поскорее уходить надо, пока не поздно. Я со своими талантами, может, ещё и найду новых хозяев. Больше мы о нём не слыхали. А от ветровского дома нынче и следа не осталось, сгорел, вишь, у кого-то в печке целый дом…
– А этот дом, – спросил Лёнька, – Егора дом почему не сгорел?
– Находились охотники и на него, да твой Акимыч не дал дом раскатать, спасибо ему за это. Он ведь дружил с Егором крепко… Он и сейчас частенько сюда приходит, посидит в избе, повспоминает, поговорит с Егором вслух…
– Акимыч дружил с Егором?!
– В последние годы он один и был друг у моего хозяина. Но такой, какого иному за всю жизнь не найти.
– А что было дальше с Егором? В лагере?
Лёнька был очень рад, что наконец-то сумел задать Толмачу этот вопрос.
– В лагере, Лёня, пробыл Егор все десять лет, что ему дали. Из тех, кто попал туда в одно с ним время, в живых остались единицы. А когда вышел Сеничеву срок, его отправили в глухую сибирскую деревню на поселение. Там должен был он провести остаток своих дней. Егор прожил на поселении почти три года, а затем многое изменилось в стране, и таких людей, как Сеничев, наконец признали невиновными. Теперь он мог вернуться домой…
ГОРЬКИЕ ТРАВЫ РОДИНЫ
…Вот так, через десять лет после Победы, оказался дома Егор Сеничев. Но никто уже не ждал его там: умер отец Егора в сорок четвёртом году, и дом Сеничевых, одинокий и пустой, разваливался на виду у всей деревни. Смотрел Егор на этот дом, о котором грезил столько лет, словно в недоумении, а ветер шевелил его седые волосы и овевал Егора запахом сорных трав.
Односельчане узнали его, но приветить никто не спешил, и только Фёдор Кормишин подошёл к нему и пригласил к себе в избу. Долго сидели они тогда за столом, о многом переговорили, и в конце разговора Фёдор сказал:
– Хорошо, что вернулся ты сюда, Егор, нам без этой земли никак не прожить. За дом не беспокойся, мы старый ваш разберём и на том же месте новый поставим. А покуда живи у меня. На людей, Егор, не обижайся, что не хотят пока признавать тебя. Обозлила, понимаешь, их эта война, в Песках у нас почти все бабы вдовами остались. Не могут простить тебе службу у немцев. В сорок втором как узнали здесь, что пропал ты без вести, то-то слёз было: плакали, как по родному, даром что у каждого своя беда. А в сорок четвёртом дошло твоё письмецо чудом из лагеря, и те же бабы ну прямо сдурели все, возненавидели тебя. Так что ты, Егорка, не удивляйся и не сердись больно-то. Поживёшь, люди к тебе попривыкнут да в конце концов и простят.
– Спасибо тебе, Федя, – ответил Егор. – Обижаться мне на людей не за что и идти отсюда некуда, так что останусь здесь.
На том они и порешили.
Однако в Песках народ думал по-другому, и на следующее утро вся деревня явилась во двор к Кормишиным.
– Эй, Федька, ты долго будешь у себя врага прятать?
– Это какого же врага? – спросил Фёдор.
– А Сеничева, что немцам прислуживал?!
– Бог с вами, какой же он враг, бабы? – хотел их Фёдор утихомирить, но одна из них, Марфа Задворкина, крикнула на него:
– Ты помолчи, тебя не спрашивают! Мы на гостя твоего пришли поглядеть, спросить его кое о чём. Или боится он перед народом показаться?
– Нет, не боюсь, – сказал Егор, выходя на крыльцо. – Здравствуйте, добрые люди.
– Мы-то добрые, – ответила за всех Марфа, – а вот как тебе после такого позора не совестно нам в глаза смотреть? Зачем в Пески вернулся? Думаешь, примем тебя после всего? Да лучше бы тебя убили! В нашей деревне предателей сроду не было!
– Что ты говоришь, Марфа Демьяновна! – не выдержал опять Кормишин. – За что ж ты так казнишь человека?
– А за то, что лечил извергов проклятых, которые наших детей и мужиков убивали! Я три похоронки за войну получила!
Тут и остальные заголосили кто о чём.
– Да успокойтесь, бабоньки! – закричал им Фёдор. – Неужто он по своей воле к немцам работать пошёл?
Тут выступил из толпы Кутявин Игнат, что с войны вернулся без обеих рук, и сказал:
– Ты, Федька, коли не понимаешь, отчего народ бунтует, то и впрямь помолчи. А тебе, Егор, я так скажу: тяжело нам с тобой будет жить на этой земле. По своей или не по своей воле ты немцам служил, на твоей совести останется. Но вот я, к примеру, как могу к тебе сердцем повернуться? С войны калекой пришёл – до самой смерти обуза семье. А другое – искалечила мне душу эта война, так что и не знаю порою, человек я или зверь. Зубами бы рвал фашистских гадов, такая во мне ненависть. А ты хочешь, чтобы я с тобой по-соседски жил да каждый день раскланивался? Нет, Егор, разделила нас эта война, и уж никогда нам не сойтись. Так что ступай-ка отсюда подобру-поздорову. Может, и осядешь где-нибудь, да только не здесь.
Молча слушал Егор своих земляков, словно и не думал оправдываться. Зато Фёдор никак с его участью мириться не хотел.
– Что же это вы надумали, а? Человека с родной земли, из отчего дома гоните. Ведь тут отец и мать его лежат…
– Вспомнил, защитник! А ты рассказал своему дружку, как его отец помер? Ну, так я расскажу. Когда узнал он, что единственный сын без вести пропал, бабы думали, кончится от горя, а он таки выдюжил. А получил письмо про твои боевые заслуги, прочитал и тут же в избе на пол рухнул. Через два дня помер. Вот что ты, Сеничев, сотворил. А Федька подумал бы, за кого грудью встаёт, сам-то знает небось, почём фунт лиха.
– Да что нам Федьку слушать! Пускай сам Сеничев скажет, зачем служил у иродов! Ужо не отмолчится!
– Отвечай, Егор, если люди тебя спрашивают, – велел безрукий Игнат.
– Что же отвечать? – с грустью проговорил Егор. – Лечил людей все пятнадцать лет: наших, потом немцев, снова наших в лагере. И большой разницы в них не нашёл, все одинаково скроены. Мог бы, конечно, и не лечить… Так что считайте, работал по своей воле. В лагере тоже помогал всем подряд, не спрашивал, кто да за что. И покуда не лишит Господь своей милости, буду помогать всякому. А из Песков я уйду, не тревожьтесь.
Так ответил Егор и поклонился односельчанам, а те стояли в замешательстве, не зная, что делать им теперь. Фёдор Кормишин повернулся было идти в избу, но остановился и сказал с горечью:
– Эх, люди, люди!.. И впрямь застила вам глаза ваша ненависть. Через неё не видите ни черта. Ты, тётка Марфа, забыла уже, кто твоего Захарку от смерти спас? А ты, прокурор, к кому бегал, когда твоя мать слегла? Забыли, все забыли, кем нам Сеничев Егор был. Помним только, что он немцев лечил. Э-э-эх!.. Пойдём, Егор Алексеич, в избу, всё ясно, – и увёл Сеничева.
Но люди с кормишинского двора не расходились. Топтались на месте, переглядывались, не решаясь заговорить, и словно ненароком подталкивали Игната Кутявина к крыльцу. Игнат вертел головой, озираясь на народ с укоризной, потом влез на ступени и глухо крикнул:
– Эй, Сеничев, Егор! Выдь на минуту!
– Чего тебе надо, или ещё какую обиду вспомнил? – спросил Фёдор, отворив дверь.
– Скажи Егору, пускай остаётся, мы не против.
…И остался Егор в Песках. Сперва, конечно, надо было ему обзавестись домом.
– Мы с тобой вот что сделаем, – рассуждал Фёдор, – старый дом раскатаем по брёвнышку, среди них добрые ещё найдутся, и сложим из них новый, поменьше, так чтоб на первое время было жильё. А там вступишь в колхоз, выпишешь себе лесу, и мы тебе хороший, большой дом выстроим. Может, семьёй к тому времени обзаведёшься…
– Мне, Федя, видно, на роду написано прожить бобылём, – отвечал Егор, – так что обойдусь я одним домом.
– Ну, это ты погоди зарекаться. Вот охолонут наши солдатки, да и окрутит тебя какая-нибудь.
Вдвоём, Фёдор с Егором, и поставили этот домишко. До осени управились, и перешёл Сеничев в собственный угол. Работать устроился сторожем на зернохранилище. Препятствий ему в этом никто не чинил, и вообще люди как бы не замечали Егора. При встрече здоровались, но не заговаривали, а чаще спешили куда-нибудь свернуть, увидев Сеничева.
Егор тоже ничьей дружбы не искал, работу выполнял исправно, а в остальное время занимался своими травами.
– Думаешь, пригодятся? – спрашивал у него Фёдор Кормишин.
– Как не пригодиться, – отвечал Егор, – нешто война всех здоровыми сделала?
Однажды вечером, когда Фёдор с Егором чаёвничали у Кормишиных, вернулась с работы Пелагея.
– Егор, ты про Марфу Задворкину не слыхал?
– Не слыхал…
– Да ты что! Сёдни прямо на ферме так схватило, аж в голос кричала. Мужики её домой отнесли, и председатель подводу дал в райцентр отвезти, а она ехать отказалась. Не надо, говорит, мне ихней больницы, два раза уже резали, а толку? Лучше дома помру, чем под ножом. Так и не согласилась в Синий Бор ехать. Давай, говорю, Марфа Демьяновна, я Сеничева Егора позову, он тебе поможет. Как она на меня руками замашет: что ты, как мне его просить-то теперь? Я ж его на чём свет стоит поносила. Нет, уж видно, пришла моя смерть. Так ты пойдёшь, Егор, или нет?
– Конечно, пойду. Ненадолго только к себе заскочу.
– Ой! – засуетилась Пелагея. – Тогда я к Марфе побегу, скажу ей, что придёшь.
Вскоре и Егор был у Марфы и поил её целебным отваром.
– Напрасно вам операции делали, Марфа Демьяновна, – говорил он, – можно было без них обойтись. Я вам буду лекарство готовить и приносить, а вы пейте на здоровье.
Горько заплакала Марфа:
– Ох, Егор, Егор, прости ты меня, старую дуру, что такое зло на тебя держала…
– Полно вам старое поминать, – успокаивал Егор, – всё хорошо будет. Вы, Марфа Демьяновна, скажите другим, кому помощь нужна, пусть приходят.
И понемногу-понемногу снова сделался Сеничев Егор лекарем на всю округу. Шёл к нему и ехал больной люд, у которого одна надежда на чудо оставалась. За работой Егору некогда было ни поесть, ни поспать толком, и, зная про это, Фёдор Кормишин стал приходить к нему по вечерам с чугунком.
– Давай ужинать, Егор, тут Пелагея нам щец наварила.
– Спасибо, Федя, спасибо, нянька моя разлюбезная!
– То-то нянька! Тебе, я чай, другая нянька нужна. Не присмотрел себе жены-то ещё?
Егор разводил руками:
– Ну какой я жених, Федя? Неужто сам не видишь? Не хозяин, не работник, и всё моё богатство вон по стенам развешано. Да больные день и ночь идут. Кто же это на такую жизнь со мной решится?
– Да, мил человек, выбрал ты себе ношу, – сокрушался Кормишин.
И так шло время, шло и постепенно уносило с собой людскую неприязнь к Егору. Уже никто не попрекал его прошлым, словно из человеческой памяти навсегда стёрлось это тягостное воспоминание. Правды ради скажу, что и особой любви односельчан Сеничев больше не видел. Трудно им было понять Егора: его изломанная судьба, одинокая неустроенная жизнь, его равнодушие к земным благам не укладывались в обычном сознании. Но было что-то ещё, чего другие ни постичь, ни определить не могли, а ощущали даже тогда, когда просто смотрели в глаза Егору: в этих глазах отражалась сама вечность.
Я тоже не всё понимал, – сказал Толмач, и протяжный вздох вырвался из его груди. – Да и как понять, если Егор год от года вырастал в духе, как вырастает ввысь могучее дерево. Чтоб его понять, нужно было с ним вровень встать. Домовому это вовсе не суждено, а человеку… хоть и даётся, да редко.
В Песках Егор вернулся к лечению травами. Обученный матерью всем тонкостям знахарского ремесла, он с самого начала действовал, как она: снадобье, молитва… Но уже тогда что-то странное начало происходить в душе Егора. Его больные выздоравливали, благодарили своего спасителя, а у него самого оставался в душе какой-то осадок, горчинка, похожая на разочарование…
Егор и сам не знал, о чём тайно печалуется его душа. На самом деле она прозревала истину, о которой Егор всерьёз задумался, когда вылеченные им люди стали приходить снова – уже с другими болезнями. Он опять лечил их, а к ним липли новые и новые хвори… Со временем Егору стало казаться, что это одна-единственная болезнь как червь сидит в человеке и лишь переползает с одного места на другое. Значит, нужно вырвать корень болезни, но как? Почему вообще хворают люди?
Егору нужно было только задать этот вопрос; ответ пришёл сам – очень простой и сразу. «В самом деле, Бог вызвал нас из небытия, вдохнул в каждого живую душу, создал этот мир, чтоб, живя в нём, человек неустанно стремился к свету, добру, к великому и любящему своему Отцу. Всякая немощь, всякая скорбь приходит к человеку, когда он забывает о своём призвании, когда любовь к преходящему и тленному затмевает в нём любовь к божественному, вечному. Господь призывает нас остановиться и задуматься, а мы упорствуем в своих заблуждениях, не умея или не желая расслышать Его голос…» Теперь, если бы у Егора спросили, что такое болезнь, он ответил бы коротко: это разговор человека с Богом.
Большое облегчение принесло Егору это открытие, но и смущение немалое: а как же быть ему? Нужно ли его участие в этом общении двоих?
За подобными раздумьями Егора застала война, она же и помогла найти ответ. В жуткой круговерти страданий и смерти у Егора не осталось сомнений в том, надо ли ему помогать людям. Однако в помощи, понял он, нуждается прежде всего душа человека. Поначалу Егора даже удивляло, с какой готовностью открываются ему раненые бойцы, прошедшие такое ужасное чистилище. «На войне люди лишаются всего, к чему успели привязаться в жизни, – думал Егор. – Война разрушает их дома, семьи, уносит друзей, уносит иллюзии… Саму жизнь здесь можно потерять в любой момент. И вот когда у человека ничего, кажется, не остаётся, он обретает возможность увидеть Бога, которого больше ничто не заслоняет». Обращение к нему, постоянное устремление и любовь, считал Егор, способны исцелить любой недуг. Нужно помочь людям понять это. Так Егор Сеничев увидел путь, которым ему отныне предстояло идти. Целебные травы же оставались его верными помощниками.
– Ты, Егор Алексеич, травник или проповедник? – спрашивал Фёдор Кормишин. – Раньше ты вроде не так лечил.
– Да выходит, что сперва проповедник, – немного смущаясь, отвечал Егор. – Душу ведь травами не вылечишь, а вот телу помочь можно.
– А почему у твоих снадобий всегда горький вкус такой? – допытывался Фёдор.
– А тебе бы исцелиться и горечи не напиться? – в свой черёд спрашивал Егор. И, видя, что Кормишин не понимает его, говорил иначе:
– Считай, Федя, что в этой горечи вся сила травы и заключена.
– А ты вот что скажи, – не отставал Кормишин, – ты, когда за травами идёшь, иной раз полную корзинку приносишь, а иной раз всего ничего. Это почему?
– Это потому, что земля сама знает, сколько ей своих даров отдать. А человек должен это чувствовать, и жадничать тут нельзя.
– Ну а ежели он пожадничает?
– Понимаешь, Федя, когда земля сама тебе травы отдаёт, они светятся. Тихое такое свечение, я его хорошо вижу…
– Отчего же они светятся, Егор?!
– Да оттого, что в них много силы, в них – дух матушки земли. А вот если человек вовремя не остановится и лишнее сорвёт, корзинка тут же и померкнет. И никакой пользы от такой травы уже не будет. Со мной это случалось поначалу…