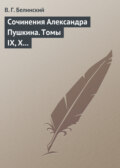В. Г. Белинский
Славянский сборник
Мы не будем входить в разбор мнений г. Савельева о Венелине. Скажем только, что все странности этого странного человека г. Ростиславич безусловно принимает за несомненные истины и что он, столь строгий к Байеру и Шлецеру за их филологические натяжки, в филологической дыбе Венелина видит свободные и рациональные филологические выводы. Для него ясно, как день божий, что гунны были славяне, а Аттила – Телан, что франки были тоже славяне, и т. п.{29}. Всему этому он так рад, всем этим он так горд, как будто бы и в самом деле для нас, русских XIX века, большая радость – кровное родство с варварами-гуннами и их Тамерланом – Аттилою, грозившим гибелью будущей европейской цивилизации!.. Что касается до нас, мы охотно признаем в Венелине, как в ученом, хорошие стороны. Это был один из тех умов замечательных, но парадоксальных, которые вечно обманываются в главном положении своей доктрины, но открывают иногда истины побочные, которых касаются мимоходом. Страстный к своему предмету, владевший огромною, хотя и специальною ученостью, исступленный славянин, Венелин, доказывая нелепость – славянизм большей части народов, игравших роль в Европе средних веков до крестовых походов, в то же время обогатил свои сочинения интересными побочными сближениями и выводами, может быть, действительно поубавил число народов, доказав, что один и тот же народ принимался за нескольких, потому что был известен под разными именами, и т. п. Немцы не будут благодарны Венелину за ославянение немцев; но в том, что касается собственно славян, указания Венелина могли бы иметь свою цену и в глазах немцев, не знающих славянских наречий, если б только истинно ученая и беспристрастная рука отделила в сочинениях Венелина плевелы от зерен. Усердие Венелина к успехам просвещения болгар, доказанное не одними словами, но и делом, любовь и признательность, которые успел он возбудить в них к себе, дают о нем хорошее понятие, может быть, еще более как о человеке, нежели как об ученом. Suum cuique![5] Но смотреть на Венелина, как на славянского Нибура, как на великого ученого, который оказал человечеству услугу не меньше услуги, например, Коперника, видеть в ультраславянизме что-нибудь другое, кроме болезненной односторонности, верить ему на слово, что гунны и франки – славяне, а Аттила – Телан, и т. п., – все это, воля ваша, не больше, как только смешно и жалко! Есть же, наконец, вещи, о которых нельзя говорить серьезно, не рискуя сделаться посмешищем в глазах людей с здравым смыслом.
Что касается до г. Морошкина, нельзя не отдать ему справедливости, как профессору, который любит свой предмет, говорит о нем с знанием дела, с жаром и увлекательностью убеждения. Но ведь он читает историю русского права, а не русскую историю, – и мы, право, не знаем, каким образом увлекся он пустым и бесплодным вопросом о происхождении Руси. По крайней мере он решает его столько же забавно, как и утвердительно. По его мнению, слово Русь происходит от рощи, прута, розги или лозы (Roscia, Pruthenia, Ruthe, Rosgi), другими словами, Россия значит древлянская или лесная земля, роща, лес. Тут у него играет роль даже жезл, сиречь палка, трость, батог (по-малороссийски кий) и т. д. Все это филологическое производство утверждено на глаголе расти. Скиф (чужак, по Венелину), по мнению г. Морошкина, значит лесной житель, урман (отсюда норманн), напоминающий аримана, значит лес; будин значит то же, что скиф (лесной житель); алан значит с лесом равный; роксоланы значит то же, что аланы, а благороднейшая отрасль роксолан суть рязанцы, а все эти имена значат то же, что россы… Далее, г. Морошкин находит Поволжскую или Туркестанскую Россию.
«Я верю, – говорит он, – арабским географам и не боюсь, когда они меня, истого славянина и русса, назовут турком: я точно турок, ибо я русс; турок есть также русс, как и я: ибо он славянин». Довольно! Охотников до курьезных вещей отсылаем к книге г. Морошкина: «О значении имени руссов и славян» (Москва, 1840), а если они испугаются целой книги, то к рецензии об этой книге в 63 нумере «Литературной газеты» 1841 года{30}. Очевидно, г. Морошкин пошел гораздо далее самого Венелина; и если нельзя сказать, чтоб, подобно Венелину, он мимоходом и стороною, сделал что-нибудь для знания, – зато нельзя сказать, чтоб он не довел до последней крайности его странностей. Но тем выше заслуга г. Морошкина в глазах г. Савельева-Ростиславича, который иногда позволяет себе не во всем соглашаться с Венелиным, но г-на Морошкина во всем находит непогрешительным, как турки (они же и славяне) своего пророка. Вот истинная-то стачка гениев!..
Но нельзя без слез умиления читать полное и подробное изложение собственных ученых подвигов, которому г. Савельев-Ростиславич посвятил целых двадцать страниц. Боже мой, какая скромность и вместе с тем какое глубокое, какое твердое сознание своих заслуг, своего достоинства! Кто возьмет терпение прочесть эти двадцать страниц, тот вполне поймет, каким образом Бюффон имел смелость говорить, не краснея: «Гениев три: Лейбниц, Ньютон и я!»{31}. Хотя г. Савельев-Ростиславич и не выговаривает прямо, что на Руси не было гениев выше трех – Венелина, Морошкина и, в особенности, его, г. Савельева-Ростиславича, – однако это само собою выходит из сущности всей его толстой книги, которая, кажется, для того больше и была написана. Г-н Савельев-Ростиславич поместил в ней свою автобиографию и начал ее с самого нежного своего детства – мало! – просто с самого дня своего рождения, когда великий тезка его, Карамзин, прислал свою «Историю» родителю новорожденного, – что и решило последнего посвятить себя обработанию (обработыванию?) русской истории (стр. CCVIII–CCIX). «Отсюда (прибавляет скромный автобиограф) объясняется критическое направление первых трудов автора этой книги» (стр. CCIX). Уведомление, драгоценное для потомства, которое поэтому избавлено от труда разыскивать, писать диссертации, толстые книги, спорить, браниться, стараясь решить великий вопрос: чем объяснить критическое направление первых трудов г. Савельева-Ростиславича!.. От дня своего рождения г. Савельев-Ростиславич ведет нас с собою уже прямо в университет; жаль! через это лишились мы драгоценных фактов о его младенчестве и отрочестве… С удивительною снисходительностью и добротою, столь свойственными гению, знакомит нас г. Савельев-Ростиславич с подробностями своего университетского курса: каких профессоров он особенно уважал и с особенным вниманием слушал и кто именно из них особенно способствовал развитию в нем, г. Савельеве-Ростиславиче, мыслительности, плодом которой был его «Славянский сборник». Затем переходит он к разбору своих сочинений, и хотя многие из них, за давностью и за негодностью, давно уже забыты, тем не менее он имеет терпение приводить и опровергать все суждения о них журналов… До чего не доводит людей сочинительское самолюбие!.. Мимоходом сыплются у него брани и ругательства на гг. Полевого, Устрялова, Погодина и других шлецериан, которые, не боясь бога и совести, не радея о чести и славе отечества, преступно и злоумышленно унижают Россию, выводя варяго-руссов из Скандинавии… Велико их преступление – нельзя не согласиться; но зато и казнит же их наш великокутский инквизитор!.. Правду говорят моралисты, что добродетель всегда торжествует, а порок наказывается, – да, всегда и везде, но особенно в «Славянском сборнике» г. Савельева-Ростиславича… Гг… Полевой, Устрялов и Погодин – живые доказательства, что преступление не остается без кары; зато г. Савельев-Ростиславич – живое доказательство, что добродетель награждается. Обе эти истины он развил с удивительною тщательностью, особенно последнюю: какой-то г. Игнатович отозвался о его «Истории Северо-Восточной Европы и мнимого переселения народов», что «немного найдется произведений ума положительного не только в русской, но и в европейской литературе, соединяющих в себе такую бездну учености с живым, почти изящным и вместе строго отчетливым изложением», и что «теория об азиятском и немецком происхождении всех без изъятия воинственных дружин, разрушивших Западную Римскую историю (империю?), так сильно потрясена разысканиями Н. В. Савельева, что еще один толчок – и она рушится безвозвратно» (стр. CCXIX){32}. Но справедливо говорится, что нет розы без шипов, то есть что и добродетель иногда страдает: тут же приложено мнение и г. Полевого об этом гениальном сочинении ученого г. Савельева-Ростиславича, – мнение, которое обвиняет последнего, что он «хвалил бредни Венелина, разглагольствия Шафарика, возгласы других славянофилов, переделывал всеобщую историю и спорил об Аттиле», – вслед за тем г. Полевой воскликнул: «Как не жаль ему (г. Савельеву) тратить время, труд и дарование на такой вздор»{33}. Но г. Савельев-Ростиславич, как истинный гений, не струсил этого приговора, с которым согласны все здравомыслящие люди, и подарил его гордым презрением, которое выразил курсивом, восклицательными и вопросительными знаками в скобках. Да и странно было бы огорчиться г. Савельеву-Ростиславичу приговором г. Полевого, когда через страницу он мог привести мнение одного знатока истории о своей статье «Падение Пскова», что это – «живой отголосок простодушных летописцев наших, в изящной форме нашего времени, произведение, которое принесло бы честь самому Тьерри, если б он писал по-русски». Г-н Савельев-Ростиславич почему-то не почел за нужное сказать, кто этот знаток истории, который произвел его в русского Тьерри; но из выписки видно, что слова эти были напечатаны в «Маяке»:{34} Sic transit gloria mundi!..[6] Но ничего! г. Савельев-Ростиславич – человек не брезгливый на похвалы, из какой бы ямы ни шли они к нему… За них он сейчас же готов произвести в «знатоки истории» даже человека, который совершенно невинен в знании истории и которому совершенно бесполезно знание и того, что он действительно знает…