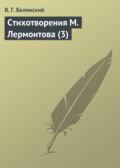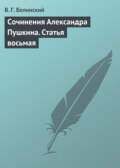В. Г. Белинский
Сочинения Зенеиды Р-вой
Но золотая руда блещет и в землянистой массе. Яркий и сильный талант Зенеиды Р-вой не могут затмить недостатки в ее произведениях. Талант ее принадлежит ей самой, недостатки – обстоятельствам жизни. Не являлось еще на Руси женщины столь даровитой, не только чувствующей, но и мыслящей. Русская литература по праву может гордиться ее именем и ее произведениями.
Зенеида Р-ва, по натуре своей, чувствовала сильную потребность высказываться на бумаге; но она была чужда печатного самолюбия, и только внешняя необходимость заставляла ее печататься. «Без этой необходимости (писала она к одному из своих знакомых) ничто не принудило бы меня броситься в этот омут и взять на себя несносное звание женщины-писательницы». Опытность, приобретенная ею в прежних литературных ее сношениях, особенно делала для нее отвратительным омут печатной известности: это мы знаем из ее собственных писем…{41}
Но и не одно это делало для нее несносным звание женщины-писательницы. В начале нашей статьи мы говорили, как еще тернист путь женщины-писательницы в Европе. У нас он не гладок по-своему: ссылаемся на свидетельство самой Зенеиды Р-вой и приводим здесь этот ловкий юмористический очерк провинциальных нравов:
В обществах так любят танцоров с блестящими эполетами, что их не подвергают строгому разбору; помещицы и горожанки принимают их с благоволением, помещики и горожане приглашают их на обеды и вечера, в угождение своим повелительницам. Но жены военных, – о, это другое дело! Судьи женского роду осматривают своих, вновь прибывших соперниц, не всегда доброжелательным оком, строго разбирают их наряды, черты лиц, характеров. Это две чуждые между собою нации, две разнородные стихии, – не легко и не скоро соединяются они в одно дружное целое.
Что же, если, по несчастию, одна из этих налетных госпож отличается чем-нибудь от прочих, – красотой, талантами, богатством! Если злодейка-молва, опережая ее, приносит весть об ней на новые квартиры и еще до приезда ее возбуждает любопытство, подстрекает соперничество, язвит самолюбие, задает оскому зависти, – и эта тощая, желтолицая фурия заранее точит зубок на незнакомую, но уже ненавистную жертву? – «Но что может так сильно расшевелить страсти женщин? Какое превосходство, какое отличие?» – скажут мои добрые читательницы! – Ах, боже мой! повторяю: маленькое отступление или выступление из общего круга обыкновенностей; релиеф на гладкой стене общества. Вообразите себе поручицу чудной, поражающей красоты, капитаншу – уроженку Северной Америки, переброшенную случаем с берегов Миссисипи на берега Оки, вместе с миллионом приданого, – или, хоть с приложением какого угодно чина, писательницу, то есть женщину, написавшую когда-нибудь в досужный час две, три повести, которые попались впоследствии под типографский станок.
«Что! Капитанша или поручица – писательница!.. Да это вздор! этого нет и быть не может! – возразят мне многие и многие, – правда, писала Жанлис, так она была придворная, графиня! писала Сталь, – так отец ее был министром, – обе получили высокое образование, но кап…» Однако ж предположим, хоть для шутки, что в толпе вновь прибывших офицеров является рука об руку с одним из них женщина-писательница. – Все заранее знают об ее прибытии, собирают об ней слухи, рассказывают вести бывалые и небывалые, – наконец она прибыла, она здесь…
Ах! как бы ее увидеть! она, верно, носит на челе отпечаток гения; верно, только и говорит о поэзии да о литературе; высказывает мнения свои вроде импровизации, употребляет технические термины, носит с собою карандаш и бумагу для записывания счастливо мелькнувших идей!..
С подобным предубеждением собираются осмотреть прибывшую писательницу.
Проходит неделя, две…
– Ма chere, приезжай в четверг ко мне обедать.
– А что у вас, именины?
– Нет, у меня обедает мадам ** – знаешь, писательница.
– Ах, очень рада, посмотрим, что за писательница.
– А вы, Авдотья Трифоновна, хотите познакомиться с ней?
– Не то чтоб познакомиться, а так, взглянуть, приеду.
– Вы читали ее сочиненья?
– И нет! есть-таки мне время читать этот вздор.
– Да что такое написала она?
– Так себе – пустячки, – верно, выкрадено из Revue Etrangere[6].
– Ах, нет, машерочка, чистое подражание Марлинскому.
– Хе, хе, хе! Далеко кулику до Петрова дня!
– Позвольте уж и мне попользоваться в четверг вашим обедом! – восклицает воспеватель всех торжественных происшествий …ского уезда. – Позвольте, ради вашей красоты! я давно желал встретиться с ней, посудить об ее уме и талантах, задать некоторые вопросы, высказать откровенное мое мнение насчет ее творений – гм… думаю, она примет с благодарностию мои советы! – прибавляет он с блаженным самоубеждением, поглаживая розовые отвороты своего голубого бархатного жилета.
– Ах душонок! я слышала, что если найдет на нее вдохновение, то где бы ни была она, на бале, в карете или на берегу реки, она тотчас начинает громко декламировать.
– Ах, если б в четверг нашло на нее вдохновение! – восклицает наивная уездная барышня.
– А знаете, ведь говорят, что все героини ее романов списаны с нее самой.
– Как так?
– Да просто, что ни возьмет в руки перо, то смотри себя и опишет.
– Ну как же это можно, помилуйте! ведь ее героини не все в одной форме испечены! Эта деревенская девочка, та светская дама, одна восторженная, другая холоднее льду, первая русская, вторая немка, третья дикарка, башкирка, что ль!..
– Э… да вы забыли, – восклицает догадливый поэт, – что она не просто женщина, а женщина-писательница, то есть создание особенное, уродливая прихоть природы, или правильнее: выродок женского пола. Ведь родятся же люди с птичьей головой и козьими ногами, – почему ж не допустить, что она прикинется такой-то, спишет с себя портрет да и обернется в другую форму.
– А… видите…
– Ну разве что… – произносят нараспев две-три барыни, слепо верующие во все сказания великого поэта.
– Так скажите ж, пожалуйста, – говорит почтенная старушка, поседевшая в незнании вещей мира сего, – скажите, она вот так-таки и пишет, как в книгах печатают? то есть… так сказать… как она напишет, то слово в слово по тому и напечатают?
И на утвердительный ответ она изъявляет желание видеть женщину, которая умеет так писать, как в книгах печатают.
Настал роковой четверг, бедная писательница едет, в невинности души своей, обедать, не подозревая, что ее приглашали на показ, как пляшущую обезьяну, как змея в фланелевом одеяле; что взоры женщин, всегда зоркие в анализировке качеств сестер своих, вооружились для встречи с нею сотнею умственных лорнетов, чтоб разобрать ее по волоску от чепчика до башмака; что от нее ждут вдохновения и книжных речей, поражающих мыслей, кафедрального голоса, чего-то особенного в поступи, в поклоне, и даже латинских фраз в смеси с еврейским языком, – потому что женщина-писательница, по общепринятому мнению, не может не быть ученой и педанткой, а почему так? не могу доложить!..
Боже мой, ведь как подумаешь, как многие всю жизнь свою сочиняют и беспошлинно рассевают по свету небылицы, – и никому не вздумается выдавать им патентов на ученость, оттого только, что они сочиняют словесно! За что ж, чуть бедная писательница набросит одну из вышереченных небылиц на бумагу, все единогласно производят ее в ученые и педантки!.. Скажите, отчего и за что такое непрошеное талантопочитание?
И потом, она ни с кем не может сойтися. Одни воображают, что она тотчас схватит их слепок и так-таки живьем передаст в журнал. Другим вечно мерещится на устах ее сатанинская улыбка, в глазах сатирическая наблюдательность, предательское шпионство, – даже и там, где, право, всякое шпионство было б ковшиком, черпающим из воздуха воду, – все в ней будто не так, как в других женщинах… да не знаю что, а истинно что-то не так!
– Посудите же по этому бледному очерку тысячной доли того, что достается бедной писательнице, каково бродить ей по свету; быть везде незваной гостью, вечно ознакомливаться. Едва узнают ее в одном месте, едва привыкнут видеть в ней женщину без жесткого прилагательного: писательница, едва приголубят добрые люди, – как вдруг поход, перемена квартир – начинай снова знакомства с азбуки{42}.
К этому яркому очерку неудобств, сопряженных на Руси с званием женщины-писательницы, даровитая Зенеида Р-ва могла бы прибавить что-нибудь вроде физиологического очерка посмертных друзей и журнальных буфонов, пляшущих и кривляющихся на могиле литературной знаменитости{43}. Ведь бывает и это на белом свете, оттого что шутам закон не писан. Но могила безмолвна и безответна…