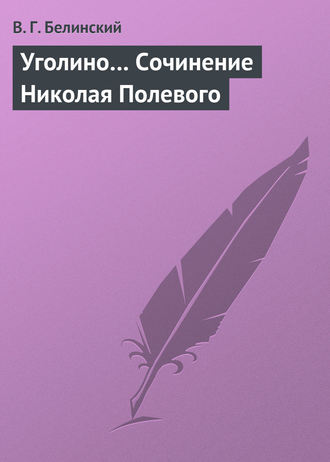
В. Г. Белинский
Уголино… Сочинение Николая Полевого
Все, что вышло из души, из чувства, словом, из полноты жизни и выражено с жаром, увлечением – во всем том есть поэзия, потому что есть непосредственность или образность. В этом смысле поэзия может быть и в проповеди, и в речи, и в статье журнальной. За примерами ходить недалеко: вспомните, что говорит Гегель[2] о той части физических наук, «которая подсматривает тихую, таинственную производительность природы, проявляющуюся в камне и в недрах земли, скромно, без претензий слагающую этот язык молчания, эти красивые формы, радующие взор, раздражающие деятельность ума, побуждающие его нечувствительно возвышаться до понятия и представляющие ему образ тихой, правильной, замкнутой в себе красоты!» Неужели это не поэзия? – Но, верно, никто не вздумает назвать это художественностию.
Мы думаем, что это даже и не поэзия, хоть тут и есть поэзия, как есть она во всем, в чем есть душа, и чувство, и жизнь; но что это красноречие, или второй, низший способ непосредственного выражения истины. Первый же и высший способ непосредственного выражения истины есть художественная поэзия, или поэзия формы; а поэзия содержания, то есть такая поэзия, которой сила и могущество заключается в глубокости и великости идеи, занимает середину между этими двумя способами непосредственного способа выражения истины. Она колеблется между красноречием и художественностию, беспрестанно переходя то в красноречие, что вредит ей, то в художественность, что возвышает ее. В этом смысле она есть какой-то недоносок, и ее произведения не могут надеяться на долговечность. Шиллер, в котором философский элемент беспрестанно боролся с художественным элементом и часто побеждал его, Шиллер, едва ли не в большей части своих произведений, принадлежит к числу этих полупоэтов. Гете и наш Пушкин – вот чисто поэтические натуры: одному довольно сорванного цветка, а другому завядшего цветка, нечаянно найденного им в книге, чтобы ринуть душу читателя в мир бесконечного…{7}
Но я начал объяснять, почему бы никогда не отдал моей драмы ни на сцену, ни в печать, а дошел до Гете и Шиллера: это не отступление, а приступ.
Положим, что у меня есть свой внутренний мир идей, которые меня тревожат и рвутся осуществиться; какой из исчисленных мною способов выражения должен я избрать? Положим, что я не метафизик, не философ, что логика мне не дается; следовательно, остается непосредственный способ. Тут опять вопрос: есть ли у меня дар творчества или только способность красноречия?
Если я поэт, то никогда но выскажусь, никогда не дам себя понять в речи, в статье, в фантазии какой-нибудь, и именно потому, что я поэт; но вполне выскажусь в художественном произведении. Если же я не художник, то как бы ни глубока и ни верна была идея, которую я хочу высказать, – она затемнится; как бы ни пламенно было чувство, одушевляющее меня, – оно охладеет, если я, наперекор моей натуре, буду силиться и натягиваться выразить то и другое в лирическом стихотворении, в поэме, романе, драме. Человек выдает поэтическое произведение: ему говорят, что в нем нет мысли, потому что нет чувства, и нет чувства, потому что нет мысли. «Помилуйте, – возражает он, – я писал по вдохновению, глубоко чувствовал то, что писал…» – Верим, верим, милостивый государь, но все-таки ваша поэма есть проза, и проза плохая, а не поэзия. Вдохновение не есть исключительная принадлежность художника: без него недалеко уйдет и ученый, без него немного сделает даже и ремесленник, потому что оно везде, во всяком деле, во всяком труде. У вас есть душа, есть чувство, но они и остались в вас и не перешли в ваше произведение, потому что вы не были самим собою, или наперекор своей природе, своему призванию, хотели передать благодатное пламя души вашей в том, чего вам не дано. Самозванство и в поэзии ведет к падению. Если бы только одни поэты были людьми с душою и чувством, то их бы некому было читать и понимать; а если бы все люди с душою и чувством сделались поэтами, то опять, им пришлось бы читать самих себя.
Вот я и кончил. «Как кончили, а «Уголино»? Ведь вы об нем хотели говорить?» – Да я уж все сказал об нем. Впрочем, если угодно, я прибавлю еще кое-что, чтобы, как говорится, завострить статью.
«Уголино» есть лучшее доказательство той непреложной истины, что нельзя писать драм, не будучи поэтом. Уметь писать стихи также не значит еще быть поэтом: все книжные лавки завалены доказательствами этой истины. Что такое «Уголино»? Что за лица в нем, что за характеры, что за завязка? Вот вопросы, на которые трудно отвечать. Интерес двоится на двух лицах, и никак нельзя решить, которое из них есть герой драмы. Вероятно – Нино, потому что его роль в Москве играет Мочалов, а в Петербурге г. Каратыгин. Что же такое этот Нино? Сперва это молодой повеса, буйный гуляка, потом аркадский пастушок, далее свирепый мститель, а наконец скучный резонер. В этом Нино собраны все недостатки Карла Моора и Фердинанда{8} и ни одного из их достоинств. Это что-то детское, прекраснодушное. Вероника по идее – прекрасное создание, напоминающее Юлию Шекспира, но по выполнению – образ без лица. Сцены любви между Нино и Вероникою – явное подражание, или, лучше сказать, явная пародия на сцены любви между Ромео и Юлиею. Вот одна из самых лучших:
Нино (робко подходит)
Вероника! я смел ли думать… о, позвольте мне
Стать на колени перед вами, ангелом небесным!
Но вы дрожите – вы меня боитесь, вы… Одно лишь слово —
Я удалюсь…
Вероника
Нет, я вас не боюсь…
Калабрита
Что ж вас бояться,
Синьор?
Нино
Ах! ангел благодатный! Нет ни слов,
Ни выражений – рассказать вам все, что здесь таится,
Что бурным морем мне колеблет грудь…
Ах! Вероника!
Вероника
Нино!
Нино
«Нино!..» повтори еще,
Скажи еще мое мне имя, Вероника!
Мне кажется, что речь твоя, что голос твой,
Как пламень, очищают это имя,
Презренное, грехом униженное имя…
Вероника
Нино!
Нино
О, дайте мне слова – о, дайте речи мне,
Которыми умел бы я сказать
Все, что внушил мне взор ее небесный!
Было время то, когда я, чист душою,
Любил людей, как братьев, – им добра желал,
Для них всем жертвовал – как платы,
Их требовал любви, и – страшно заплатили
Они обманом, ненавистью мне!
Прости мне, Вероника, – я возненавидел их[3],
Мне сладко было унижать их – да, смеяться
Над их расчетами, страстями,
Игрушками их честолюбия слепого,
Корыстными восторгами любви,
И позолоченной их дружбой – презирал я их,
И в целом мире я не находил
Такого сердца, с кем хотел бы поделиться,
Такой руки, которую хотел бы,
Как руку брата, к сердцу прижимать —
Я вырос сиротой!
Вероника
И я.
Нино
Ни братьев не знавал я, ни сестры…
Мрачной бездной мне казался мир —
Я осветить его хотел страстей пожаром —
И в нем моя сгорела вера в сердце!
Вероника
Нет! ты остался чист душою, Нино!
Ах, я не полюбила бы тебя…
Нино
Ты любишь
Меня! Святые ангелы! внимайте! Вероника!
Позволь мне плакать пред тобою,
Как плакал праотец, изгнанник рая!
Но я – я не люблю тебя – нет! это слово
Выдумано человеком – потемнено оно…
Скажи мне, как у вас на небе говорят?
Да там не говорят!
Я в первый раз постигнул
Весь этот рай души, все чувство неба на земле,
Когда тебя узнал – жить тобою начал, Вероника!
Мир божий просветлел моим очам…
Скажи мне, Вероника, говори:
Чего ты хочешь – жизни, смерти?
Ты видела, как смело я сказал
Презренным людям этим – я сказал им,
Что ты моя, моею быть должна…
Они меня отвергли с посмеяньем!
Они осмелились меня отвергнуть,
Располагать тобой они дерзают!
Вероника! знаешь ли, кто твой жених?
Уродливый старик, миланский герцог —
Чудовище, поставившее власть
На трупах, на потоках крови —
Тебя ему передадут рабыней,
Как куплю, совершат союз сердец!
Вероника
Нино! спаси меня!
Ни людей, ни света я не знаю,
Но тебя я знаю так давно!
Когда услышала я голос твой —
Он был родной, знакомый сердцу моему;
Когда я встретила твой взор горящий —
Он был звездою счастья моего!
Ты мне родной, ты брат мне…
Нино
Твой супруг!
Нас сочетали тайные судьбы —
Не разорвать союз наш человеку!
Вероника
В чудных сердца сновиденьях
Твой видала образ я;
Грусть, тоска меня терзала,
Ныло сердце, грудь теснилась —
И как весело мне стало,
Как мне радостно, легко,
С той поры, когда я, Нино,
Средь толпы людей мне чуждых
Распознала образ твой!
Нино
Вероника! пусть другим богатство, слава,
Мне одну тебя; одну мне Веронику…
Убежим – нас ждет святой алтарь!
Удалимся далеко – в пустыни,
Убежим на дикий берег моря —
Дальше, дальше от людей мы убежим!
Душно, тяжко здесь – легко, свободно там.
Там одни, одни мы будем,
Там весь мир мы позабудем —
Жизнь мгновеньем промелькнет…
Вероника
А за гробом, Нино, Нино!
Вечность там любви святой!..
Нино
Без веры нет любви —
Ты веришь ли мне, Вероника,
Если я тебе не буду клясться?
Клятва – преступленья тень…
Будь моею, ангел, будь моею!..
Вероника (в его объятиях)
Я твоя!
Нино
Вероника! зачем не умрем мы с тобою в это блаженное мгновение – я боюсь – оно пролетит…
Ни одного поэтического стиха, ни одного поэтического слова! Фраза на фразе! Это ли сцена любви, где все должно быть проникнуто чувством, душою, жаром! И какой конфектный взгляд на любовь! Во всем этом нет ни тени даже того, что мы назвали красноречием в поэзии и что так часто и с такою силою кипит в самых детских произведениях Шиллера, даже в «Фиеско», самой плохой из его драм. Сцена любви! Да знаете ли вы, что такое должна быть сцена любви? Все, что ни говорит Нино Веронике и она ему, все это произвольно, потому что все это может быть изменено и переменено, как вам угодно и сколько вам угодно. И потому-то они, сами чувствуя затруднительность своего положения, прибегают к благодетельному в таких случаях междометию «ах» и к восклицательному повторению своих имен «Нино!», «Вероника!» Прочтите сцену свидания (тоже в саду) Ромео с Юлиею: есть ли там хоть одно лишнее или незначащее слово, не обрисовывает ли там каждая фраза, каждое слово и характера, и положения, и чувства того, из чьих уст выходит! Вы скажете – что за сравнение: то Шекспир, а то Полевой! Очень хорошо: перечтите все, что говорит черкешенка Пушкина пленнику, Зарема Марии, Алеко Земфире, Мария Мазепе, что пишет Татьяна Онегину, и что писал Онегин Татьяне, и что говорила она ему: вот язык любви, бесконечно глубокий, бесконечно разнообразный, как разнообразны люди, которые говорят им. Вы опять скажете, – что за сравнение: то Пушкин, а то Полевой! Но с кем же сравнивать? Неужели же с Сумароковым?







