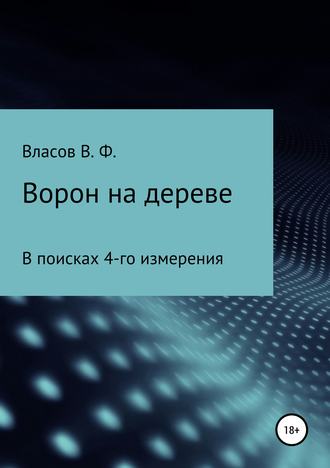
Владимир Фёдорович Власов
Ворон на дереве
2
– Что вам сказал врач? – встретила вопросом Новенького Елизавета Вторая в холле.
– Он сказал, что я остаюсь с вами навсегда.
Такое заявление было принято всеми с проявлением бурной радости.
– По крайней мере, мы все здесь свободные люди, – заявил Платон.
– Нам не терпится знать, чем же закончилась ваша история, – сказала Карусель после того, как все присутствующие поздравили Новенького с принятием навечно в свое общество.
– Как я уже говорил, – продолжил свой рассказ Новенький, – через неделю после того страшного убийства и временного освобождения меня из-под стражи моего соседа, прокурора города, нашли болтающимся на суку тополя с веревкой на шее. Этим же утром в своем почтовом ящике я обнаружил толстый конверт на мое имя. В нем оказалось предсмертное письмо Юриста, которое на многое проливало свет.
– И вы прочли это письмо? – возбужденно воскликнула Карусель.
– Да. Я постоянно ношу его с собой, оно доказывает мою невиновность.
– Так что же вы все это время молчали, – засуетилась Елизавета Вторая. – Скорее несите его сюда! Нам не терпится его прочесть.
Новенький вынул из кармана пижамы затертую пачку исписанных листов и положил на стол перед собой.
– Пусть читает Карусель, – распорядилась Елизавета Вторая. – Нужно воздать ей должное, у нее самая лучшая из нас дикция.
Карусель благодарно улыбнулась своей сопернице, взяла бумаги и приступила к чтению.
3
«Ты, наверное, очень удивишься, получив мое предсмертное письмо. По правде говоря, прежде, чем уйти из жизни, я долго думал, стоит ли мне перед кем-то исповедоваться или лучше унести тайну в могилу. В Бога я не верю. И ]все же в этот последний вечер своей жизни мне почему-то |захотелось облегчить перед кем-либо свою душу. Не знаю, |может быть, у любого умирающего появляется такая потребность. Но ты должен также себе четко уяснить, почему я осуществляю это желание, обращаясь именно к тебе. По правде говоря, я тебя глубоко презираю. В моих глазах ты всегда казался мне червем, жалкой букашкой, которую можно раздавить одним движением сапога. Впрочем, покидая этот мир, я решил, оставляя тебе жизнь, подвергнуть тебя еще более изощренному мучению, чем распятие Иисуса Христа. Для меня это будет последней моей экспериментальной работой. Заточив тебя пожизненно в доме умалишенных, где каждый К день врачи будут вбивать гвозди в твой мозг, разрушая тебя как личность, я решил совершить последнее жертвоприношение своей работе, которой я отдал лучшие двадцать лет. своего существования. Ты удивишься, если я тебе признаюсь, что ты никогда не вызывал у меня чувства ненависти. Ненавидят только сильных. Я же просто избрал тебя своей жертвой. И я, как твой палач (а палач – это не тот, кто приводит приговор в исполнение, а тот, кто осуждает человека на смерть или мучения), уходя из жизни, открываю |. тебе свою душу, исповедуюсь пред тобой. Ну как? Интересный вид злодейства избрал я для тебя?
Должно быть, ты думаешь, что я злодей. Но в государстве, где совершаются смертные казни, все злодеи. Ибо в казни, совершающейся от имени государства, участвует весь народ. Мне-то уж это известно, как юристу. Когда я еще немного верил в Бога, я считал, что жизнь у человека, какое бы он ни совершил преступление, может отнять только сам Бог, но не люди. Нет такого закона, чтобы лишать человека жизни, но есть преступление против природы. Люди имеют право пользоваться высшей мерой наказания, осуждая человека на пожизненное заключение, как это делаю я с тобой, но ни в коем случае не лишать человека его жизни. Но наше государство в самой своей основе преступно.
И вот меня, подобно богине Правосудия, поставили на вершину государственной пирамиды решать судьбы людей. Я и раньше-то относился с большим скептицизмом к идее государства. Ведь если разобраться, никто не может представлять весь народ, от имени народа говорят только диктаторы, узурпировавшие это право.
Я говорю это все тебе как своей жертве, как своего рода богу, которому хочу покаяться. Ведь и идея христианства тоже построена на удушении своей жертвы с тем, чтобы потом ей каяться. Я вижу во всем этом признаки антиномии нашей преступной человеческой сущности, которая не может жить, чтобы не мучить жертву. А христианство – это та спасительная уловка, которая узаконивает человека как преступника, как неисправимого грешника и злодея. Она как бы шепчет ему на ухо: «Сделай преступление и покайся, соверши злодейство и повинись, и ты спасешься, получив прощение, не сойдешь с ума, ибо ты грешен и в самой твоей основе заложены преступление и зло». Как видишь, само государство и религия делают человека преступником. Как один осужденный мне однажды сказал в камере смертников, мы все, двуногие твари, – сборище «вульгарных кретинов с преступными наклонностями».
Так рассуждая, я пришел к выводу, что на мне нет вины за выносимый мной смертный приговор людям, которых я отправлял в царство теней. И чем больше я их туда отправлял, тем больше входил во вкус этого злодейства. Чтобы не усложнять себе жизнь, я все меньше отягощал себя соображениями морали, посылая иногда на виселицу невинные жертвы. А что ты хочешь? Мое дело – осудить человека, и я часто кажусь в этом спектакле невинным из-за того, что у моей жертвы – слабая защита. Мои же победы приносили мне славу и удовлетворение. Они делали меня сильнее, изощрённее в моих методах кровопускания. И я, как злой гений, творил свое черное дело, загоняя жертву в мышеловку. Я ни разу не присутствовал при исполнении моих приговоров, но в какое-то время у меня вдруг появилось чувство вампира, желающего напиться чужой крови. Должен тебе признаться, что со всеми прокурорами происходят подобные метаморфозы. Человек, жаждущий попробовать чьей-либо крови, в конце концов, удовлетворяет свое желание.
Так случилось и со мной.
В тот вечер, когда ты включил на всю громкость дуэт Отелло и Дездемоны, я спокойно надел перчатки, поднялся в ее квартиру и перестрелял всю компанию. Я могу даже тебе описать, с каким хладнокровием и цинизмом я это проделал. Когда ты метался на балконе и бросал на улицу горшки, я отключил в ее квартире свет. Еще поднимаясь по лестнице к ней, я уже знал, что буду делать, и прикрывал правый глаз рукой. И знаешь, для чего я это делал? Когда я открывал ключом дверь квартиры, которую в свое время подарил ей, на лестничной площадке горел свет. Я вошел в темную комнату, где они лежали, и открыл правый глаз. Ослепленные ярким светом, они ничего не видели в полумраке, так же, как и я не мог видеть левым глазом, но мой правый глаз, привыкший к темноте, отлично различал мишень. Поражая цели быстро и метко, я перестрелял их, как куропаток. Музыка, звучавшая из твоего окна, заглушала звуки выстрелов. Затем я бросил пистолет рядом с ними и вышел, включив свет в квартире общим рубильником на лестничной площадке. На все у меня ушло не более двух минут. Никто меня не видел.
Когда я вышел из ее подъезда, то ты чуть не сшиб меня с ног. Вид у тебя был ужасен. Ты что-то бормотал, как полоумный, и, казалось, ничего не видел вокруг себя. На какое-то мгновение мне стало жаль тебя, и я подумал: «Куда летишь, безумный?»
Вернувшись в свою квартиру, я посмотрел в окно и увидел тебя, остолбеневшего над телами убитых. Твоя музыка переполошила всю улицу. Жильцы выглядывали из окон и ругались. Многие заметили твое обезумевшее лицо в ее комнате и позднее дали против тебя показания. Потом тебя арестовали. Как помнишь, я, посоветовав тебе симулировать помешательство, взял с тебя подписку о невыезде и отпустил домой.
Как только ты последовал моему совету, то сразу же попался в мой капкан, который я профессионально поставил на тебя. Тебя еще больше заподозрили в убийстве. По правде говоря, потом мне стало тебя жаль. Ты всегда вызывал во мне чувство жалости и презрения, особенно тогда, когда, потеряв голову от любви, шпионил за моей бывшей любовницей. Мне было забавно наблюдать, как ты часами простаивал на балконе, устремив влюбленный взгляд на ее окно. Мне даже очень хотелось, чтобы ты познакомился с нею, но в жизни я не встречал таких нерешительных людей. Мне тогда казалось, что этой тайной любовью в себе ты насиловал свою природу. Но я-то знал, что рано или поздно человек платит безумием, совершив насилие над собой. Я тебя просто подтолкнул туда, куда ты бессознательно стремился, в психлечебницу. И думаю, что у тебя другого выхода нет. Ты просто всегда будешь следовать своему року. Ты очень плохо знаешь этот мир. Ты не способен ни управлять своей судьбой, ни распоряжаться своей жизнью. Ты всегда останешься жертвенным ягненком или закланием.
Именно поэтому, уходя из этого мира, я решил исповедаться перед тобой, унизиться и попросить прощения, как делают христиане перед замученной ими жертвой.
А сейчас я хочу рассказать тебе, почему убил ее и из-за чего лишаю себя жизни.
ее обнаружил в одном рабочем поселке недалеко от города. Признаюсь, влюбился в нее так же, как ты. Ничего не мог делать, только думал о ней. Ей тогда было не более шестнадцати лет, а я был женат: Не скажу, что мы жили с женой плохо, наоборот, жена во мне души не чаяла. Дом наш был полная чаша. Я занимал почетное место в городе. Но вдруг в один день я почувствовал себя несчастным. Все как будто перевернулось в моей жизни. Ничто меня не удовлетворяло. Я словно пал со своего золоченого постамента, так же, как ты, искал с ней встречи, бродил возле ее дома в самом трущобном районе поселка. Отца у нее не было, и жила она лишь с одной матерью, которая к тому же была пьяницей. Ютились вдвоем в маленькой комнатушке. И не только они были бедными, все их соседи и вся округа представляла собой гольную рвань. Я был готов тогда все для нее сделать, вытащить ее из этой дыры, дать ей возможность выучиться и, наконец, жениться на ней. О, эти наивные мечты и планы что-то изменить в этой жизни! Тогда я совсем потерял голову. И я многое сделал для нее. Слишком много. Я отравил свою жену.
Это, вероятно, самое большое мое злодейство в жизни. Если перед кем-то по-настоящему испытываю муки раскаяния, то только перед моей женой. Вероятно, вскоре я встречусь с ней на том свете, как, впрочем, и со многими загубленными мною жертвами, и мне стыдно будет посмотреть ей в глаза. Не знаю, вымолю ли я у нее прощение. А может быть, сейчас своей смертью я искуплю свою вину. Это только христианская мораль осуждает самоубийство, но я искренне считаю, что только самоубийство является искуплением вины. И такой уход из жизни намного гуманнее и достойнее человека, чем тот, который ему готовят за его грехи и преступления другие, подобные ему собратья, разрывая его на части, как это делают волки, окружив кабана.
Но вернемся к нашей подруге.
Я перевез ее из рабочего поселка и поселил в квартире, где она дожила до последнего своего смертного часа. Она находилась у меня, можно сказать, совсем под боком. Стоило моей жене куда-либо отлучиться, я тут же появлялся у нее и проводил с ней самые лучшие часы жизни. В это время я был по-настоящему счастлив, я не желал ничего лучшего. Но, кажется, я совершил ошибку, поселив ее так близко от себя. Сейчас я понимаю, как ей было тяжело видеть меня каждый день из своего окна в обществе моей жены. Возможно, она тоже искренне полюбила меня.
Вначале у нас все шло хорошо, но потом она восстала. Не то, чтобы она мне что высказала, но как-то дала понять, что такая жизнь не может ее удовлетворять полностью. Да и жизнь у нее в то время была не очень веселой. Большую часть суток она сидела как бы взаперти, ожидая встречи со мной. На людях мы не могли вместе показываться нигде. Мое положение прокурора города всегда делало нас тайными любовниками, пытающимися скрывать свои чувства от чужих глаз. Тогда я не очень щадил ее самолюбие, считая, в силу своего эгоизма, что много сделал для нее. И поэтому не придал особого значения ее настроению, отмахнувшись от него, как от случайного каприза. Даже какое-то время смотрел на нее, как на свою рабыню, жестоко обращаясь с ней.
И вот настал день, когда она решительно воспротивилась мне, как будто хотела за что-то отомстить. Она призналась, что изменила мне. Этою я от нее не ожидал. Я совсем не тянул ее за язык говорить мне о своей измене. Она сама сказала, что это произошло с тем-то тогда-то и там-то. Я испытал нечто, подобное шоку, в то время, как она рассказывала мне о своем адюльтере во всех подробностях. Я словно обезумел и хотел ее тут же изнасиловать, но она отдалась мне с охотою. И тогда я первый раз применил к ней извращения, больше похожие на пытки. Зачем я это сделал, до сих пор не могу объяснить себе, но я не мог представить, что она, которую я взял такой чистой и девственной, вдруг в какой-то момент не принадлежала мне, а могла так же, как со мной, заниматься любовью с кем-то еще.
В тот вечер я проделывал с ней то, на что могла согласиться разве что последняя проститутка. Она вытерпела все, ни словом не попрекнула меня, не сопротивлялась, а у меня временами щемило сердце от боли. После этого вечера в моей душе появилось к ней какое-то новое чувство. Человек, вероятно, не должен преступать определенных порогов. Когда близко приближаешься к омуту этого черного царства, которое дремлет в глубине нашего сознания и содержит чувственную сатанинскую основу, то потом бывает трудно сделать шаг назад. Так же и в моем случае. После того раза мне опять захотелось повторить с ней пережитую вакханалию. Но я не смел этого сделать. И тогда она сама призналась мне, что-то же самое проделала она с тем парнем по своей инициативе. Вот тогда я словно потерял разум.
Как-то из центра приехали ко мне два моих бывших сослуживца, получивших довольно высокие чины, или, как у нас говорят, вышедших в люди. Мы решили вместе отметить встречу холостяцкой пирушкой на одной даче за городом. И тогда я взял ее с собой. У меня зрело еще только смутное желание проверить, говорит ли она правду о своем якобы сердечном друге или разыгрывает меня, чтобы подтолкнуть к какому-нибудь решению. Я совсем не хотел ее испытывать, а только решил посмотреть, как она будет вести себя с моими товарищами.







