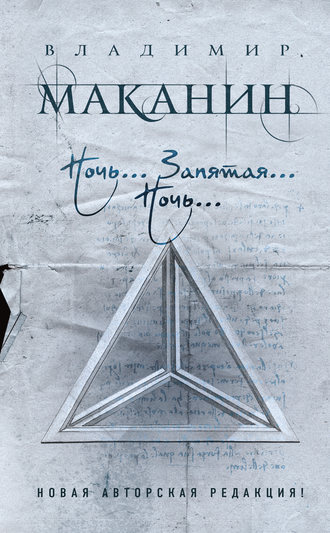
Владимир Маканин
Ночь… Запятая… Ночь… (сборник)
© Маканин В., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
* * *
Кавказский пленный
Рассказ
1
Солдаты, скорее всего, не знали про то, что красота спасет мир, но что такое красота, оба они, в общем, знали. Среди гор они чувствовали красоту (красоту местности) слишком хорошо – она пугала. Из горной теснины выпрыгнул вдруг ручей. Еще более насторожила обоих открытая поляна, окрашенная солнцем до ослепляющей желтизны. Рубахин шел первым, более опытный. Залитое солнцем пространство напомнило Рубахину о счастливом детстве (которого не было). Особняком стояли над травой гордые южные деревья (он не знал их названий). Но более всего волновала равнинную душу эта высокая трава, дышавшая под несильным ветром.
– Стой-ка, Вов. Не спеши, – предупреждает негромко Рубахин.
Быть на незнакомом открытом месте – все равно что быть на мушке. И прежде чем выйти из густого кустарника, Вовка-стрелок вскидывает свой карабин и с особой медлительностью ведет им слева направо, используя оптический прицел как бинокль. Он затаил дыхание. Он оглядывает столь щедрое солнцем пространство. Он замечает у бугра маленький транзисторный приемник.
– Ага! – восклицает шепотом Вовка-стрелок. (Бугор сух. Приемничек сверкнул на солнце стеклом.)
Короткими перебежками оба солдата в пятнистых гимнастерках добираются до вырытой наполовину (и давно заброшенной) траншеи газопровода – до рыжего, в осенних красках бугра.
Они повертели в руках: они уже узнали приемничек. Ефрейтор Боярков, напившись, любил уединиться, лежа где-нибудь в обнимку с этим стареньким транзистором. Раздвигая высокую траву, они ищут тело. Находят неподалеку. Тело Бояркова привалено двумя камнями. Обрел смерть. (Стреляли в упор – он, похоже, и глаза свои пьяные не успел протереть. Впалые щеки. В части решили, что он в бегах.) Документов никаких. Надо сообщать. Но почему боевики не взяли транзистор? Потому что улика? Нет. А потому, что слишком он старенький и дребезжащий. Не вещь.
Необратимость случившегося (смерть – один из ясных случаев необратимости) торопит и против воли подгоняет: делает обоих солдат суетными. Орудуя плоскими камнями как лопатами, они энергично и быстро закапывают убитого. Так же наскоро слепив над ним холмик земли (приметный насыпной холм), солдаты идут дальше.
И вновь – на самом выходе из теснины – высокая трава. Ничуть не пожухла. Тихо колышется. И так радостно перекликаются в небе (над деревьями, над обоими солдатами) птицы. Возможно, в этом смысле красота и спасает мир. Она нет-нет и появляется, как знак. Не давая человеку сойти с пути. (Шагая от него неподалеку. С присмотром.) Заставляя насторожиться, красота заставляет помнить.
Но на этот раз открытое солнечное место оказывается знакомым и неопасным. Горы расступаются. Впереди ровный путь, чуть дальше наезженная машинами пыльная развилка, а там – и воинская часть. Солдаты невольно прибавляют шагу.
Подполковник Гуров, однако, не в части, а у себя дома. Надо идти. Не передохнув и минуты, солдаты топают туда, где живет подполковник, всесильный в этом месте, а также во всех примыкающих (красивых и таких солнечных) местах земли. Живет он с женой в хорошем деревенском доме, с верандой для отдыха, увитой виноградом; при доме есть и хозяйство. Время жаркое – полдень. На открытой веранде подполковник Гуров и его гость Алибеков; разморенные обедом, они дремлют в легких плетеных креслах в ожидании чая. Рубахин докладывает, запинаясь и несколько робея.
Гуров сонно смотрит на них обоих, таких пропыленных (пришедших к нему незвано и – что тоже не в пользу – совсем незнакомых ему своими лицами); на миг Гуров молодеет: резко повысив голос, он выкрикивает – никакой подмоги кому бы то ни было, какая, к чертям, подмога! – ему даже смешно слушать, чтобы он направил куда-то своих солдат выручать грузовики, которые по собственной дурости влипли в ущелье!..
Больше того: он их так не отпустит. Рассерженный, он велит обоим солдатам заняться песком: пусть-ка они честно потрудятся – помогут во дворе. Кррругом – аррш! И чтоб разбросали ту гору песка у въезда. И чтоб песок по всем дорожкам! – к дому и к огороду – грязь всюду, мать ее перемать, не пройдешь!.. Жена подполковника, как и все хозяйки на свете, рада дармовым солдатским рукам. Анна Федоровна, с засученными рукавами, в грязных разбитых мужских ботинках, тут же и появляется на огороде с радостными кликами: пусть, пусть еще и с грядками ей помогут!..
Солдаты развозят песок на тачках. Разбрасывают его, сеют лопатами по дорожкам. Жара. А песок сырой, брали, видно, у речки.
Вовка водрузил на кучу песка транзистор убитого ефрейтора, нашел поддерживающую дух ритмичную музыку. (Но негромко. Для своего же блага. Чтоб не помешать Гурову и Алибекову, разговаривающим на веранде. Алибеков, судя по доносящимся тягучим его словам, выторговывает оружие – дело важное.)
Транзистор на песчаном бугре еще раз напоминает Рубахину, какое красивое место выбрал себе Боярков на погибель. Пьяненький дурак, он в лесу спать побоялся, на полянку вышел. Еще и к бугру. Когда боевики набегали, Боярков толкнул свой приемничек в сторону (своего верного дружка), чтобы тот сполз с бугра в траву. Боялся, что отнимут, – мол, сам как-нибудь, а его не отдам. Едва ли! Заснул он пьяный, а приемник попросту выпал у него из рук и, съехав на чуть, скатился по склону.
Убили в упор. Молодые. Из тех, что хотят поскорее убить первого, чтобы войти во вкус. Пусть даже сонного. Приемник стоял теперь на куче песка, а Рубахин видел тот залитый солнцем рыжий бугор, с двумя цепкими кустами на северном склоне. Красота места поразила, и Рубахин – памятью – не отпускает (и все больше вбирает в себя) склон, где уснул Боярков, тот бугор, траву, золотую листву кустов, а с ними еще один опыт выживания, который ничем незаменим. Красота постоянна в своей попытке спасти. Она окликнет человека в его памяти. Она напомнит.
Сначала они разгоняли тачки по вязкой земле, потом догадались: покидали по дорожкам доски. Первым шустро катит тачку Вовка, за ним, нагрузив горой, толкает свою огромную тачку Рубахин. Он разделся до пояса, поблескивая на солнце мощным и мокрым от пота телом.
2
– Даю десять «Калашниковых». Даю пять ящиков патронов. Ты слышал, Алибек, – не три, а пять ящиков.
– Слышал.
– Но чтоб к первому числу провиант…
– Я, Петрович, после обеда немного сплю. Ты тоже, как я знаю. Не забыла ли Анна Федоровна наш чай?
– Не забыла. За чай не волнуйся.
– Как не волноваться! – смеется гость. – Чай – это тебе не война, чай остывает.
Гуров и Алибеков помалу возобновляют свой некончающийся разговор. Но вялость слов (как и некоторая ленивость их спора) обманчива – Алибеков прибыл за оружием, а Гурову, его офицерам и солдатам, позарез нужен провиант, прокорм. Обменный фонд, конечно, оружие; иногда бензин.
– Харч чтобы к первому числу. И чтоб без этих дурацких засад в горах. Вино не обязательно. Но хоть сколько-то водки.
– Водки нет.
– Ищи, ищи, Алибек. Я же ищу тебе патроны!
Подполковник зовет жену: как там чай? ах, какой будет сию минуту отменный крепкий чай! – Аня, как же так? ты кричала нам с грядок, что уже заварила!
В ожидании чая оба неспешно, с послеобеденной ленцой закуривают. Дым так же лениво переползает с прохладной веранды на виноград и – пластами – тянется в сторону огорода.
Сделав Рубахину знак: мол, попытаюсь добыть выпивки (раз уж здесь застряли), стрелок отходит шаг за шагом к плетеному забору. (У Вовки всегда хитрые знаки и жесты.) За плетнем молодая женщина с ребенком, и Вовка-стрелок тотчас с ней перемигивается. Вот он перепрыгнул плетень и вступает с ней в разговор. Молодец! А Рубахин знай толкает тачку с песком. Кому что. Вовка из тех бойких солдат, кто не выносит вялотекущей работы. (И всякой другой работы тоже.)
И надо же: поладили! Удивительно, как сразу эта молодуха идет навстречу – словно бы только и ждала солдата, который ласково с ней заговорит. Впрочем, Вовка симпатичный, улыбчивый и где на лишнюю секунду задержится – пустит корешки.
Вовка ее обнимает, она бьет его по рукам. Дело обыкновенное. Они на виду, и Вовка понимает, что надо бы завлечь ее в глубь избы. Он уговаривает, пробует с силой тянуть за руку. Молодуха упирается: «А вот и нету!» – смеется. Но за шагом шаг они смещаются оба в сторону избы, к приоткрытой там из-за жары двери. И вот они там. А малыш, неподалеку от двери, продолжает играть с кошкой.
Рубахин тем временем с тачкой. Где не проехать, он, перебрав с прежних мест, вновь выложил доски в нитку – он осторожно вел по ним колесо, удерживая на весу тяжесть песка.
Подполковник Гуров продолжает неторопливый торг с Алибековым, жена (она вымыла руки, надела красную блузку) подала им чай, каждому свой – два по-восточному изящных заварных чайника.
– Хорошо заваривает, умеет! – хвалит Алибеков.
Гуров:
– И чего ты упрямишься, Алибек!.. Ты ж, если со стороны глянуть, пленный. Все ж таки не забывай, где ты находишься. Ты у меня сидишь.
– Это почему же я – у тебя?
– Да хоть бы потому, что долины здесь наши.
– Долины ваши – горы наши.
Алибеков смеется:
– Шутишь, Петрович. Какой я пленный… Это ты здесь пленный! – Смеясь, он показывает на Рубахина, с рвением катящего тачку: – Он пленный. Ты пленный. И вообще каждый твой солдат – пленный!
Смеется:
– А я как раз не пленный.
И опять за свое:
– Двенадцать «калашей». И семь ящиков патронов.
Теперь смеется Гуров:
– Двенадцать, ха-ха!.. Что за цифра такая – двенадцать? Откуда ты берешь такие цифры?.. Я понимаю – десять; цифра как цифра, запомнить можно. Значит, стволов – десять!
– Двенадцать.
– Десять…
Алибеков восхищенно вздыхает:
– Вечер какой сегодня будет! Ц-ц!
– До вечера еще далеко.
Они медленно пьют чай. Неторопливый разговор двух давно знающих и уважающих друг друга людей. (Рубахин катит очередную тачку. Накреняет ее. Ссыпает песок. Разбрасывая песок лопатой, ровняет с землей.)
– Знаешь, Петрович, что старики наши говорят? В поселках и аулах у нас умные старики.
– Что ж они говорят?
– А говорят они – поход на Европу пора делать. Пора опять идти туда.
– Хватил, Алибек. Евро-опа!..
– А что? Европа и есть Европа. Старики говорят, не так далеко. Старики недовольны. Старики говорят, куда русские, туда и мы – и чего мы друг в дружку стреляем?
– Вот ты и спроси своих кунаков – чего?! – сердито вскрикивает Гуров.
– О-о-о, обиделся. Чай пьем – душой добреем…
Какое-то время они молчат. Алибеков снова рассуждает, неторопливо подливая из чайника в чашку:
– …не так уж она далеко. Время от времени ходить в Европу надо. Старики говорят, что сразу у нас мир станет. И жизнь как жизнь станет.
– Когда еще станет. Жди!
Гуров вздыхает:
– Вечер и правда будет чудный сегодня. Это ты прав.
– А я всегда прав, Петрович. Ладно, десять «калашей», согласен. А патронов – семь ящиков…
– Опять за свое. Откуда ты берешь такие цифры – нет такой цифры семь!
Хозяйка несет (в двух белых кастрюлях) остатки обеда, чтобы скормить пришлым солдатам. Рубахин живо откликается – да! да! Солдат разве откажется!.. «А где второй?» И тут запинающемуся Рубахину приходится тяжело лгать: мол, ему кажется, у стрелка живот скрутило. Подумав, он добавляет чуть более убедительно: «Мается, бедный». – «Может, зелени наелся? яблок?» – спрашивает сердобольно подполковничиха.
Окрошка вкусна, с яйцом, с кусками колбасы; Рубахин так и склонился над первой кастрюлей. При этом он громко бьет ложкой по краям, гремит. Знак.
Вовка-стрелок слышит (и, конечно, понимает) звук стучащей ложки. Но ему не до еды. Молодая женщина в свою очередь слышит (и тоже понимает) доносящееся со двора истеричное мяуканье и вслед вскрик оцарапанного малыша: «Маа-ам!..» Видно, задергал кошку. Но женщина сейчас вся занята чувством: истосковавшаяся по ласке, с радостью и с жадностью она обнимает стрелка, не желая упустить свой случай. Про стрелка и говорить нечего – солдат есть солдат. И тут снова детский капризный крик: «Ма-ааам…»
Женщина срывается с постели – высунув голову в дверь, она цыкнула на малыша; и притворяет дверь плотнее. Босо протопав, возвращается к солдату; и словно вся вспыхивает заново. «Ух, жаркая! Ух, ты даешь!» – восхищен Вовка, а она зажимает ему рот: «Тс-сс…»
Шепотом Вовка излагает ей нехитрый солдатский наказ: просит молодую женщину сходить в сельпо и купить там дрянного их портвейна, солдату в форме не продадут, а ей это пустяк…
Он делится с ней и главной заботой: им бы сейчас не бутылку – им бы ящик портвейна.
– Зачем вам?
– В уплату. Дорогу нам заперли.
– А че ж вы, если портвейн нужен, к подполковнику пришли?
– Дураки, вот и пришли.
Молодая женщина вдруг плачет – рассказывает, что недавно она сбилась с дороги и ее изнасиловали. Вовка-стрелок, удивленный, присвистывает: вот ведь как!.. Посочувствовав, он спрашивает (с любопытством), сколько же их было? – их было четверо, она всхлипывает, утирая глаза уголком простыни. Ему хочется порасспросить. Но ей хочется помолчать. Она утыкается головой, ртом ему в грудь: хочется слов утешения; простое чувство.
Разговаривают: да, бутылку портвейна она, конечно, купит ему, но только если стрелок пойдет с ней к магазину. Она сразу же купленную бутылку ему передаст. Не может она с бутылкой идти домой… после того что с ней случилось, – люди знают, люди что подумают…
Во второй кастрюле тоже много еды: каша и кусок мяса из консервов, – Рубахин все уминает. Он ест небыстро, нежадно. Запивает двумя кружками холодной воды. От воды его немного знобит, он надевает гимнастерку.
– Отдохнем малость, – говорит он самому себе и уходит к плетню.
Он прилег: впадает в дрему. А из соседнего домика, куда скрылся Вовка, через открытое окно доносится тихий сговор.
Вовка: – …тебе подарок куплю. Косынку красивую. Или шаль тебе разыщу.
Она: – Ты ж уедешь. (Заплакала.)
Вовка: – Так я пришлю, если уеду! Какое тут сомненье!..
Вовка долго упрашивал, чтобы она стоя согнулась. Не слишком высокий Вовка (он этого никогда не скрывал и охотно рассказывал солдатам) любил обхватить крупную женщину сзади. Неужели она не понимает? Так приятно, когда женщина большая… Она отбивалась, отнекивалась. Под их долгий, жаркий шепот (слова уже становились неразличимы) Рубахин уснул.
Возле магазина, едва получив портвейн из ее рук, Вовка сует бутылку в глубокий надежный карман солдатских брюк и – бегом, бегом – к Рубахину, которого он оставил. Молодая женщина так его выручила, и кричит, с некоторой опаской напрягая на улице голос, кричит вслед с упреком, но Вовка машет рукой, уже не до нее – все, все, пора!.. Он бежит узкой улицей. Он бежит меж плетней, срезая путь к дому подполковника Гурова. Есть новость (и какая новость!) – стрелок стоял, озираясь, возле их заплеванного магазинишки (ожидая бутылку) и услышал об этом от проходивших мимо солдат.
Перепрыгнув плетень, он находит спящего Рубахина и толкает его:
– Рубаха, слышь!.. Дело верное: старлей Савкин пойдет сейчас в лес на разоружение.
– А? – Рубахин заспанно смотрит на него.
Вовка сыплет словами. Торопит:
– На разоружение идут. Нам бы с ними. Прихватим чурку – вот бы и отлично! Ты ж сам говорил…
Рубахин уже проснулся. Да, понял. Да. Будет как раз. Да-а, нам, скорее всего, там повезет – надо идти. Солдаты тихо-тихо выбираются из подполковничьей усадьбы. Они осторожно забирают вещмешки, свое оружие, стоявшее у колодца. Они перелазят плетень и уходят чужой калиткой, чтобы те двое, с веранды, их не увидели и не окликнули.
Их не увидели и не окликнули. Сидят.
Жара. Тихо. И Алибеков негромко напевает, голос у него чистый:
Все здесь замерло-ооо до утра-ааа…
Тихо.
– Люди не меняются, Алибек.
– Не меняются, думаешь?
– Только стареют.
– Ха. Как мы с тобой… – Алибеков подливает тонкой струей себе в чашку. Ему уже не хочется торговаться. Грустно. К тому же все слова он сказал, и теперь правильные слова сами (своей неспешной логикой) доберутся до его старого друга Гурова. Можно не говорить вслух. – Вот чай хороший совсем исчез.
– Пусть.
– Чай дорожает. Еда дорожает. А время не меня-я-ется, – тянет слова Алибеков.
Хозяйка как раз вносит на смену еще два заварных чайника. Чай – это верно. Дорожает. «Но меняется время или нет, а прокорм ты, брат, привезешь…» – думает Гуров и тоже слова вслух пока не произносит.
Гуров знает, что Алибеков поумнее, похитрее его. Зато его, Гурова, немногие мысли прочны и за долгие годы продуманы до такой белой ясности, что это уже и не мысли, а части его собственного тела, как руки и ноги.
Раньше (в былые-то дни) при интендантских сбоях или просто при задержках с солдатским харчем Гуров тотчас надевал парадный мундир. Он цеплял на грудь свой орденок и медали. В армейском «козлике» ГАЗ-69 (с какой пылью, с каким ветерком!) мчал он по горным извилистым дорогам в районный центр, пока не подкатывал наконец к известному зданию с колоннами, куда и входил, не сбавляя шага (и не глядя на умученных ожиданием посетителей и просителей), прямиком в кабинет. А если не в райкоме, то в исполкоме. Гуров умел добиться. Бывало, и сам рулил на базу, и взятку давал, а иногда еще и умасливал кого нужно красивым именным пистолетом (мол, пригодится: Восток – это Восток!.. Он и думать не думал, что когда-нибудь эти игривые слова сбудутся). А теперь пистолет ничто, тьфу. Теперь десять стволов мало – дай двенадцать. Он, Гуров, должен накормить солдат. С возрастом человеку все тяжелее даются перемены, но взамен становишься более снисходителен к людским слабостям. Это и равновесит. Он должен накормить также и самого себя. Жизнь продолжается, и подполковник Гуров помогает ей продолжаться – вот весь ответ. Обменивая оружие, он не думает о последствиях. При чем здесь он?.. Жизнь сама собой переменилась в сторону всевозможных обменов (меняй что хочешь на что хочешь) – и Гуров тоже менял. Жизнь сама собой переменилась в сторону войны (и какой дурной войны – ни войны, ни мира!) – и Гуров, разумеется, воевал. Воевал и не стрелял. (А только время от времени разоружал по приказу. Или, в конце концов, стрелял по другому приказу; свыше.) Он поладит и с этим временем, он соответствует. Но… но, конечно, тоскует.
Тоскует по таким понятным ему былым временам, когда, примчавшись на своем «газике», он входил в тот кабинет и мог накричать, всласть выматерить, а уж потом, снисходя до мира, развалиться в кожаном кресле и покуривать с райкомовцем, как с дружком-приятелем. И пусть ждут просители за дверью кабинета. Однажды не застал он райкомовца ни в кабинете, ни дома: тот уехал. Но зато застал его жену. (Поехав к ним домой.) И отказа тоже не было. Едва начинавшему тогда седеть, молодцеватому майору Гурову она дала все, что только может дать скучающая женщина, оставшаяся летом в одиночестве на целую неделю. Все, что могла. Все, и даже больше, подумал он (имея в виду ключи от огромного холодильника номер два, их районного мясокомбината, где складировали свежекопченое мясо).
– Алибек. Я тут вспомнил. А копченого мяса ты не достанешь?..
3
Операция по разоружению (еще с ермоловских времен она и называлась «подковой») сводилась к тому, что боевиков окружали, но так и не замыкали окружение до конца. Оставляли один-единственный выход. Торопясь по этой тропе, боевики растягивались в прерывистую цепочку, так что из засады – хоть справа, хоть слева – взять любого из них, утянуть в кусты (или в прыжке сбить с тропы в обрыв и там разоружить) было делом не самым простым, но возможным. Конечно, все это время шла частая стрельба поверх голов, пугавшая и заставлявшая их уходить.
Оба затесались в число тех, кто шел на разоружение, однако Вовку высмотрели и тотчас изгнали: старлей Савкин полагался только на своих. Взгляд старлея скользнул по мощной фигуре Рубахина, но не уперся в него, не царапнул, и хрипатого приказа «Два шага вперед!..» не последовало – скорее всего, старлей просто не приметил. Рубахин стоял в группе самых мощных и крепких солдат, он с ними сливался.
А как только началась стрельба, Рубахин поспешил и уже был в засаде; он покуривал в кустах с неким ефрейтором Гешей. Солдаты-старогодки, они вспоминали тех, кто демобилизовался. Нет, не завидовали. Хера ли завидовать? Неизвестно, где лучше…
– Шустро бегут, – сказал Геша, не подымая глаз на мелькавшие в кустах тени.
Боевики бежали сначала по двое, по трое, с шумом и треском проносясь по заросшей кустами старинной тропе. Но кого-то из одиночек уже расхватывали. Вскрик. Возня… и тишина. («Взяли?» – глазами спрашивал Геша Рубахина, и тот кивком отвечал: «Взяли».) И вновь нарастал треск в кустах. Приближались. Стрелять они еще худо-бедно умели (и убивать, конечно, тоже), но бежать через кусты с оружием в руках, с патронташем на шее да еще под выстрелами – конечно, тяжко. Спугнутые, натыкаясь на огонь из засад, боевики сами собой устремлялись по тропе, что вроде бы все сужалась и уводила их в горы.
– А вот этот будет мой – лады? – сказал Рубахин, привставая и ускоряя шаг к просвету.
– Ни пуха! – Геша наскоро докуривал.
Оказалось, «этот» не одиночка – бежали двое, но уже выпрыгнувший из кустов Рубахин упускать их права не имел. «Сто-оой! Сто-оой!..» Он кинулся с пугающим криком за ними. Стартовал Рубахин неважнецки. Ком мускулов развить скорость сразу не мог, но уж, когда он разгонялся, ни кривой куст, ни осыпь под ногой значения не имели – летел.
Он мчался уже метрах в шести от боевика. А первый (то есть бежавший первым) шел резвее его, уходил. Второго (тот был уже совсем близко) Рубахин не опасался, он видел болтающийся на шее автомат, но патроны расстреляны (или же боевик стрелять на бегу был неловок?). Первый опаснее, автомата не было, и значит, пистолет.
Рубахин наддал. Сзади он расслышал поступь бегущего следом – ага, Гешка прикрыл! Двое надвое…
Нагнав, он не стал ни хватать, ни валить (пока с ним, упавшим, разберешься, первый наверняка уйдет). Сильным ударом левой он сбил его в овраг, в ломкие кусты, крикнув Геше: «Один в канаве! Возьми его!..» – и рванул за первым, длинноволосым.
Рубахин шел уже самым быстрым ходом, но и тот был бегун. Едва Рубахин стал его доставать, он тоже прибавил. Теперь шли вровень, их разделяло метров восемь-десять. Обернувшись, убегающий вскинул пистолет (явно наш, офицерский) и выстрелил – Рубахин увидел, что он совсем молодой. Еще выстрелил. (И терял скорость. Если б не стрелял, он бы ушел.)
Стрелял он через левое плечо, пули сильно недобирали, так что Рубахин не пригибался каждый раз, когда боевик заносил руку для выстрела. Однако все патроны не стал расстреливать, хитрец. Стал уходить. Рубахин тотчас понял. Не медля больше, Рубахин швырнул свой автомат ему по ногам. Этого, конечно, хватило.
Бегущий вскрикнул от боли, дернулся и стал заваливаться. Рубахин достал его прыжком, подмял, правой рукой прихватывая за запястье, где пистолет. Пистолета не было. Падая, выронил его, тот еще боец!.. Рубахин завел ему руки, вывернув плечо, конечно, с болью. Тот ойкнул и обмяк. Рубахин, все еще на порыве, извлек из кармана ремешок, скрутил руки, посадил у дерева, притолкнув несильное тело к стволу – сиди!.. И только тут встал наконец с земли и ходил по тропе, отдыхиваясь и ища в траве – уже внимательным глазом – свой автомат и выброшенный беглецом пистолет.
Снова топот – Рубахин скакнул с тропы в сторону, к корявому дубку, где сидел пойманный. «Тихо!» – велел ему Рубахин. В мгновение проскочили мимо них несколько удачливых и быстроногих боевиков. За ними, матюкаясь, бежали солдаты. Рубахин не вмешивался. Он дело сделал.
Он глянул на пойманного: лицо удивило. Во-первых, молодостью, хотя такие юнцы, лет шестнадцати-семнадцати, среди боевиков бывали нередко. Правильные черты, нежная кожа. Чем-то еще поразило его лицо кавказца, но чем? – он не успел понять.
– Пошли, – сказал Рубахин, помогая ему (со скрученными за спиной руками) подняться.
Когда шли, предупредил:
– И не бежать. Не вздумай даже. Я не застрелю. Но я сильно побью – понял?
Молодой пленник прихрамывал. Автомат, что швырнул Рубахин, поранил ему ногу. Или притворяется?.. Пойманный обычно старается вызвать к себе жалость. Хромает. Или кашляет сильно.
4
Обезоруженных было много, двадцать два человека, и потому, возможно, Рубахин отстоял своего пленного без труда. «Этот мой!» – повторял, держа руку на его плече, Рубахин в общем шуме и гаме – в той последней суете, когда пленных пытаются построить, чтобы вести в часть. Напряжение никак не спадало. Пленные толпились, боясь, что их сейчас разделят. Держались один за другого, перекрикиваясь на своем языке. У некоторых даже не были связаны руки. «Почему твой? Вон сколько их – все они наши!» Но Рубахин качал головой: мол, те наши, а этот – мой. Появился Вовка-стрелок, как всегда вовремя и в свою минуту. Куда лучше, чем Рубахин, он умел и сказать правду, и задурить голову. «Нам необходимо! Оставь! Записка от Гурова… Нам для обмена пленных!» – вдохновенно лгал он. «Но ты доложи старлею». – «Уже доложено. Уже договорено!» – продолжал Вовка взахлеб, мол, подполковник сейчас чай пьет у себя дома (что было правдой) – они вдвоем только что оттуда (тоже правда), и Гуров, мол, самолично написал для них записку. Да, записка там, на КП…
Вовка заметно осунулся. Рубахин недоуменно глянул в его сторону: как-никак через кусты за длинноволосым бежал он – ловил и вязал он, потел он, а осунулся Вовка.
Пленных (наконец построив) повели к машинам. Отдельно несли оружие, и кто-то вслух вел счет: семнадцать «Калашниковых», семь пистолетов, десяток гранат. Двое убитых во время гона, двое раненых, у нас тоже один ранен и Коротков убит… Крытые брезентом грузовики вытянулись в колонну и в сопровождении двух бэтээров (в голове и в хвосте) с ревом, набирая все больше скорости, двинулись в часть. Солдаты в машинах возбужденно обсуждали, горланили. Все хотели есть.
По прибытии, едва вылезли из машины, Рубахин и Вовка-стрелок вместе со своим пленным тут же отбились в сторону. К ним не цеплялись. С пленными в общем-то делать нечего: молодых отпустят, матерых месяца два-три подержат на гауптвахте, как в тюрьме, ну а если побегут – их не без удовольствия постреляют… война! Бояркова, быть может, эти же самые боевики застрелили спящего (или только-только открывшего со сна глаза). Лицо без единой царапины. И муравьи ползли. В первую минуту Рубахин и Вовка стали сбрасывать муравьев. Когда перевернули, в спине Бояркова сквозила дыра. Стреляли в упор; но пули не успели разойтись и ударили в грудь кучно: проломив ребра, пули вынесли наружу все его нутро – на земле (в земле) лежало крошево ребер, на них печень, почки, круги кишок, все в большой стылой луже крови. Несколько пуль застопорило на еще исходящих паром кишках. Боярков лежал перевернутый с огромной дырой в спине. А его нутро, вместе с пулями, лежало в земле. Вовка заворачивал к столовой.
– …На обмен взяли. Подполковник разрешение дал, – спешил сказать Вовка, опережая расспросы встретившихся солдат из взвода Орликова.
Солдаты, сытые после еды, выкрикивали ему: мол, передавай привет. Спрашивали: кто в плену? на кого меняем?!
– На обмен, – повторял Вовка-стрелок.
Ваня Бравченко засмеялся:
– Валюта!
Сержант Ходжаев крикнул:
– Молодцы, хорошо поймали! Таких любят!.. Их начальник, – он мотнул головой в сторону гор, – таких очень любит.
Чтобы пояснить, Ходжаев еще и засмеялся, показав крепкие белые солдатские зубы.
– Два, три, пять человек на одного выменяешь! – Крикнул он. – Таких как девушку любят! – И, поравнявшись, он подмигнул Рубахину.
Рубахин хмыкнул. Он вдруг догадался, что его беспокоило в плененном боевике: юноша был очень красив.
Пленный не слишком хорошо говорил по-русски, но, конечно, все понимал. Злобно, с гортанно взвизгивающими звуками он выкрикнул Ходжаеву что-то в ответ. Скулы и лицо вспыхнули, отчего еще больше стало видно, что он красив – длинные, до плеч, темные волосы почти сходились в овал. Складка губ. Тонкий, в нитку, нос. Карие глаза заставляли особенно задержаться на них – большие, вразлет и чуть враскос.
Вовка быстро сговорился с поваром. Перед дорогой надо было хорошо поесть. За длинным дощатым столом шумно и душно; жарко. Сели с краю – и тут же из вещмешка Вовка извлек ополовиненную бутылку портвейна; скрытным движением он сунул ее под столом Рубахину, чтобы тот, зажав бутылку, как водится, меж колен, незаметно для других ее допил. «Ровняк половину тебе оставил. Цени, Рубаха, мою доброту!..»
Поставил тарелку и перед пленным:
– Нэ хачу, – резко ответил тот. Отвернулся, качнув темными локонами.
Вовка придвинул к нему ближе:
– Хотя бы мясо порубай. Дорога долгая.
Пленный молчал. Вовка заволновался, что тот, пожалуй, двинет сейчас локтем тарелку и столь трудно выпрошенная у повара лишняя каша с мясом будет на полу.
Он быстро разбросал третью порцию по тарелкам себе и Рубахину. Поели. Пора было идти.
5
У ручья они пили, зачерпывая по очереди воду пластмассовым стаканчиком. Пленного, видно, мучила жажда; стремительно шагнув, он, словно рухнул, упал на колени, гремя галькой. Он не дождался, пока развяжут руки или напоят из стаканчика, – стоя на коленях и склонившись к быстрой воде лицом, долго пил. Связанные сзади посиневшие руки при этом задирались кверху; казалось, он молится каким-то необычным способом.
Потом сидел на песке. Лицо мокро. Прижимая щеку к плечу, он пытался сбросить без помощи рук нависшие там и тут на лице капли воды. Рубахин подошел:
– Мы бы дали тебе напиться. И руки бы развязали… Куда спешишь?
Не ответил. Рубахин посмотрел на него и ладонью отер ему воду на подбородке. Кожа была такой нежной, что рука Рубахина дрогнула. Не ожидал. И ведь точно! Как у девушки, подумал он.
Глаза их встретились, и Рубахин тут же отвел взгляд, смутившись вдруг скользнувших и не слишком хороших мыслей.
На миг насторожил Рубахина ветер, шумнувший в кустах. Как бы не шаги?.. Смущение отступило. (Но оно только припряталось. Не ушло совсем.) Рубахин был простой солдат – он не был защищен от человеческой красоты как таковой. И вот уже вновь словно бы исподволь напрашивалось новое и незнакомое ему чувство. И, конечно, он отлично помнил, как крикнул тогда и как подмигнул сержант Ходжаев. Сейчас предстояло быть и вовсе лицом к лицу. Пленный не мог самостоятельно перейти ручей. Крупная галька и напористое течение, а он был бос, и нога распухла у щиколотки так сильно, что уже в самом начале пути ему пришлось сбросить свои красивые кроссовки (на время они лежали в вещмешке Рубахина). Если при переходе ручья раз-другой упадет, он может стать никуда не годным. Ручей потащит волоком. Выбора нет. И понятно, что Рубахин, кто же еще, должен был нести его через воду: не он ли, когда брал в плен, броском своего автомата повредил ему ногу?







