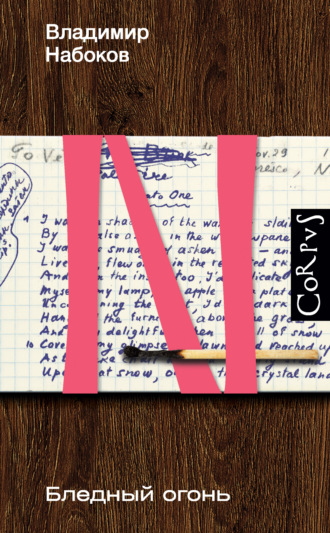
Владимир Набоков
Бледный огонь
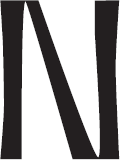
Vladimir Nabokov
Pale Fire
© Copyright © 1962, Vera Nabokov and Dmitri Nabokov
All rights reserved
The Russian translation first published in 1983
© А. Бабиков, редакторская заметка, примечания, 2022
© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Издательство CORPUS ®
От редактора
Замысел «Бледного огня» восходит к последнему незавершенному русскому роману Набокова «Solus Rex» («Одинокий король» – термин шахматной композиции), два отрывка из которого были опубликованы в 1940–1942 гг., сначала в Париже, затем в Нью-Йорке. Переехав в 1940 г. в Америку и перейдя на английский язык, Набоков отказался от мысли продолжать эту книгу, но отразил некоторые ее черты в своем первом американском романе «Под знаком незаконнорожденных» (1947).
«Бледный огонь», начатый сочинением поэмы, предварительно названной «The Brink» («Грань»), был написан в 1960–1961 гг. во Франции, Италии и Швейцарии, окончен 4 декабря 1961 г. и опубликован в следующем году в издательстве «G. P. Putnam’s Sons».
Историю подготовки русского перевода романа изложил Геннадий Барабтарло, занимавшийся в то время вместе с Верой Набоковой переводом «Пнина» для издательства «Ардис»:
Алексей Цветков взялся переводить «Бледный огонь» в конце 1970-х годов для мичиганского частного издательства «Ардис» по ходатайству издателя Карла Проффера с согласия В. Е. Н., которой посылались на сверку части перевода. Она их тщательно корректировала, будучи, как она писала мне, недовольна двумя главными чертами перевода (которые справедливо находила и в моих): вольностями (иногда вызванными недостаточным знанием американского английского языка) и неистребимыми советскими и провинциальными оборотами речи. Когда количество помарок сделалось очень велико, а одновременно возросло и сопротивление автора перевода, он предложил отказаться от этой затеи (часть уже была напечатана в «Глаголе»). В. Е. Н. тогда взялась переводить роман заново, отнюдь не пользуясь переводом Цветкова – у меня есть ее письмо, где она, описывая всю историю, смеется над самой идеей плагиата, зная – и это знали все, кто ее знал, – до какой степени ей безразлична собственная ее литературная слава. В ее переводе много недостатков, он точен буквально, но лишен поэзии и страдает технически в иных местах, и мы не сошлись с ней в ее решении важной загвоздки последней строки романа, – но он верен оригиналу и совершенно самостоятелен[1].
В указанном журнале, издававшемся «Ардисом» (Анн-Арбор), был опубликован перевод предисловия Ч. Кинбота (Набоков В. Бледный огонь. Вступление к роману в переводе А. Цветкова под редакцией В. Е. Набоковой // Глагол. 1981. № 3. С. 127–144).
Русский перевод «Бледного огня» был издан в «Ардисе» в 1983 г. с предисловием и примечаниями переводчицы. Печатается по этому изданию с исправлением замеченных опечаток, восстановлением пропущенных слов в угловых скобках и с унификацией транслитерации.
От переводчицы
Когда этот трудный перевод был сделан начерно, оказалось, что потребуется еще очень большая работа, прежде чем можно будет его напечатать. Эта работа заняла у меня три с лишним года. Перевод «Бледного огня» представлял некоторые особые трудности сверх обычных трудностей перевода набоковских текстов, в которых каждая фраза наполнена до краев содержанием и не заключает в себе ни единого лишнего слова.
В этой книге «примечания» к поэме вовсе не являются примечаниями к ней. Все же они состоят в некоторой связи с цитируемыми строчками, и связь эта должна быть сохранена, что не всегда случается автоматически при точном переводе строчек и примечания. Вот несколько случаев, в которых переводчице пришлось слегка отклониться от оригинального текста:
В строчках 728–729 сделана попытка сохранить хотя бы намек на остроумную игру слов оригинала.
Строки 653–664. Хотя поэма переведена без рифм и размера, эти строчки потребовали ритма для сохранения ауры «Лесного Царя» (который в дальнейшем еще раз дает о себе знать).
Строчки 828 и 830 также не могли обойтись без рифмы.
Я старалась как можно ближе придерживаться смысла оригинала, но все же не смею утверждать, что мне удалось понять и передать всю сложную внутреннюю перекличку мыслей и образов.
Вера НабоковаМонтре, 16-го ноября 1982 г.
Посвящаю моей жене
Это напомнило мне его курьезный рассказ мистеру Лэнгтону о непристойном поведении одного молодого человека из хорошей семьи: «Сударь, последний раз, что мне о нем говорили, он бегал по городу и стрелял кошек». А потом, в каком-то ласковом рассеянии, он вспомнил про своего любимца кота и сказал: «Но Ходжа никто не застрелит, – нет, нет, Ходжа никто не застрелит».
Джеймс Босвель«Жизнь Сэмюеля Джонсона»
Предисловие
Написанная героической строфой поэма «Бледный огонь» – девятьсот девяносто девять строк, разделенных на четыре песни, – сочинена Джоном Фрэнсисом Шейдом (род. 5 июля 1898 г., ум. 21 июля 1959 г.) в течение последних двадцати дней его жизни в собственном его доме в Нью-Уае, в штате Аппалачия, США. Рукопись, большей частью чистовой экземпляр, с которого совершенно точно отпечатан настоящий текст, состоит из восьмидесяти библиотечных карточек среднего формата, из коих на каждой Шейд употреблял розовую линию для заголовка (номер песни, дата), а на остальных четырнадцати голубых линиях тонким пером, мельчайшим, аккуратным, удивительно ясным почерком, выписывал текст поэмы, с пропуском одной линии в обозначение двойного интервала, всегда начиная новую карточку под начало каждой песни.
Короткая (166 строк) Песнь первая, со всеми ее забавными птицами и паргелиями[2], занимает тринадцать карточек. Ваша любимая Песнь вторая, а также Песнь третья, этот поразительный tour de force[3], одинаковы по длине (334 строки) и занимают по двадцать семь карточек каждая. Песнь четвертая совпадает по длине с первой и, так же как она, занимает тринадцать карточек, из коих четыре последние, использованные им в день смерти, принадлежат не к чистовому экземпляру, а к исправленному черновику.
Будучи человеком методичным, Джон Шейд обычно к полуночи переписывал очередную порцию завершенных строк, но даже если он иной раз, как я подозреваю, и переписывал их позднее заново, то помечал карточку (или карточки) не днем окончательной правки, а датой исправленного черновика или первого чистового экземпляра. Я хочу сказать, что он сохранял фактическую дату написания в предпочтение вариантам правки. Прямо напротив моей нынешней квартиры находится очень громкий увеселительный парк.
В результате мы располагаем полным календарем его работы. Песнь первая была начата в послеполуночные часы 2 июля и завершена 4 июля. Следующую песнь он начал в свой день рождения и закончил 11 июля. Еще одна неделя была посвящена Песни третьей. Песнь четвертая была начата 19 июля, и, как уже отмечено, последняя треть ее текста (строки 949–999) дошла до нас лишь в форме исправленного черновика. Этот отрывок, по виду чрезвычайно растрепанный, изобилующий опустошительными подчистками и стихийного масштаба вставками, не следует линиям карточек с той же педантичностью, что чистовой экземпляр. В действительности же, как только вы погружаетесь в него и принуждаете себя открыть глаза в прозрачных глубинах под его возмущенной поверхностью, он оказывается изумительно точным. В нем нет ни единой неполной строки, ни одного сомнительного прочтения. Этого факта достаточно, чтобы показать, что обвинения, выдвинутые (24 июля 1959 г.) в газетном интервью одним из наших самозваных шейдистов – утверждавшим, никогда не видав рукописи поэмы, что она «состоит из разрозненных набросков, из которых ни один не представляет точного текста», – есть злостная выдумка тех, кто желал бы не столько пожалеть о том, в каком состоянии работа великого поэта была прервана смертью, сколько подвергнуть хуле компетенцию, а может быть, и честность нынешнего редактора и комментатора.
Другое заявление, сделанное публично профессором Хёрли и его кликой, относится к структурным соображениям. Цитирую из того же интервью: «Никто не может сказать, какой длины предполагал сделать свою поэму Джон Шейд, но вовсе не исключено, что оставленное им есть лишь малая часть сочинения, видевшегося ему туманно, как бы сквозь стекло». Опять чепуха! Помимо сущего горна внутренней очевидности, звенящего на протяжении всей Песни четвертой, существует свидетельство Сибиллы Шейд (в документе, датированном 25 июля 1959 г.), что ее муж «никогда не намеревался выйти за пределы четырех частей». Для него Третья песнь была предпоследней, и я лично слышал, как он говорил об этом во время прогулки на закате, когда, как бы думая вслух, он делал смотр трудам минувшего дня и жестикулировал в простительном самоодобрении, меж тем как его сдержанный спутник безуспешно старался приноровить ритм своего долгоногого размашистого шага к порывистой дергающейся походке растрепанного старого поэта. Более того, я даже осмелюсь утверждать (пока наши тени продолжают прогулку без нас), что ему оставалось написать лишь одну строку поэмы (а именно стих 1000), которая была бы идентична первой строке и завершила бы структурную симметрию, с двумя одинаковой длины центральными частями, основательными и пространными, образующими вместе с более короткими флангами пару крыл в пятьсот строк каждое, и будь она проклята, эта музыка. Зная комбинационную склонность ума Шейда и его тонкое чувство гармонического равновесия, я не могу себе представить, чтобы он намеревался искалечить грани своего кристалла, препятствуя его предсказуемому росту. И если бы и этого не было достаточно – а этого совершенно, совершенно достаточно, – я имел несравненную возможность услышать из собственных уст моего бедного друга вечером 21 июля, что труд его завершен – или почти завершен (смотри мое примечание к стиху 991).
Эта пачка из восьмидесяти карточек была скреплена резиновым кольцом, которое я теперь вновь благоговейно на них натягиваю, в последний раз просмотрев их драгоценное содержание. Другая, гораздо более тонкая стопка, состоящая из двенадцати карточек, которые были скреплены вместе и помещены в тот же бурый конверт, что и главная пачка, содержит несколько дополнительных двустиший, пролагающих свой краткий и несколько смазанный путь сквозь хаос первоначальных набросков. Шейд держал за правило уничтожать черновики, как только у него отпадала в них нужда; я хорошо помню, как одним сияющим утром я видел с моего крыльца, как он сжег целую колоду их в бледном огне мусорной печи, перед которой он стоял, склонив голову, как официальный плакальщик на похоронах, среди подхватываемых ветром черных бабочек этого задворочного аутодафе. Он все же сохранил эти двенадцать карточек ради неиспользованных удач, сияющих из-под окалины исчерпанных черновиков. Возможно, что он смутно предполагал заменить некоторые места чистового экземпляра иными прелестными вариантами из своего запаса, или, что более вероятно, предпочтение, украдкой питаемое к тому или иному наброску, исключенному из соображений архитектоники или же потому, что это раздражало С., побудило его отложить запасные варианты до того времени, когда мраморная завершенность безупречной машинописи либо подтвердит их, либо заставит казаться самый изящный вариант неуклюжим и нечистым. А еще возможно, и да будет мне позволено добавить это со всей скромностью, что он намеревался испросить моего совета по прочтении поэмы мне, – это, я знаю, входило в его планы.
Эти отвергнутые разночтения читатель найдет в моих комментариях к поэме. На их место в тексте указывают или, по крайней мере, намекают черновики окончательных строк, находящихся в непосредственной близости. В некотором смысле многие из них обладают большей художественной и исторической ценностью, чем иные из лучших мест в конечном тексте. Здесь мне следует объяснить, каким образом я оказался редактором «Бледного огня».
Тотчас после смерти моего дорогого друга я убедил убитую горем вдову предусмотреть и дать категорический отпор коммерческим страстям и академическим интригам, которые не могли не разыграться вокруг рукописи ее мужа (переправленной мною в надежное место еще до того, как его тело упокоилось в могиле), подписав соглашение о том, что он передал рукопись мне; что я незамедлительно опубликую ее с моим комментарием в любом издательстве по моему выбору; что весь доход, за вычетом доли издателя, поступит ей; и что в день публикации рукопись будет передана в Библиотеку Конгресса на вечное хранение. Я предлагаю любому серьезному критику найти какую бы то ни было несправедливость в таком контракте. Тем не менее он был назван (бывшим адвокатом Шейда) «фантастическим месивом зла», меж тем как другое лицо (его бывший литературный агент) с издевкой интересовалось, почему это дрожащая подпись г-жи Шейд выведена «какими-то странными красными чернилами». Такие сердца и такие умы не в состоянии понять, что привязанность человека к шедевру может быть совершенно подавляющей, в особенности когда изнанка ткани восхищает созерцателя и единственного зачинателя, чье прошлое переплетается в ней с судьбой простодушного автора.
Как, кажется, упомянуто в моем последнем примечании к поэме, глубинная бомба смерти Шейда разворотила такие тайны и подняла со дна столько мертвой рыбы, что мне пришлось покинуть Нью-Уай вскоре после моей последней беседы с помещенным в заключение убийцей. Составление комментария пришлось отложить до тех пор, пока я не подыщу нового инкогнито в более спокойном окружении, но практические вопросы, относящиеся к поэме, требовали безотлагательного разрешения. Я полетел в Нью-Йорк, сделал фотокопию рукописи, договорился об условиях с одним из издателей Шейда и уже был на грани заключения сделки, когда, как бы вскользь, посреди необъятного заката (мы сидели в орехово-стеклянной келье в пятидесяти этажах над процессией скарабеев), мой собеседник заметил: «Вы будете рады узнать, доктор Кинбот, что профессор Имярек (один из членов Шейдовского комитета) согласился сотрудничать с нами в качестве консультанта по этому материалу».
«Радость», знаете ли, есть нечто чрезвычайно субъективное. Одна из наших глуповатых земблянских поговорок гласит: радуется потерянная перчатка. Я немедленно защелкнул замок моего портфеля и направился к другому издателю.
Вообразите мягкосердечного неуклюжего великана, вообразите историческую личность, для которой понятие о деньгах сводится к абстрактным миллиардам государственного долга; вообразите монарха в изгнании, не подозревающего о Голконде[4], скрытой в его запонках! Все это к тому – о, с преувеличением, – что я самый непрактичный человек в мире. Отношения между таким человеком и старой лисой книгопечатного дела бывают сначала трогательно беззаботные и приятельские, исполненные дружелюбного поддразнивания и знаков взаимной приязни. У меня нет оснований полагать, что какая-либо случайность помешает подобным первоначальным отношениям с добрым старым Фрэнком, моим нынешним издателем, остаться такими.
Фрэнк подтвердил благополучное возвращение корректуры, которую он высылал мне сюда, и попросил упомянуть в моем предисловии – и я охотно это делаю, – что ответственность за все ошибки в комментариях лежит исключительно на мне. Вставить перед профессиональный. Профессиональный корректор внимательно сверил с фотокопией манускрипта печатный текст поэмы и нашел в нем несколько пропущенных мною пустяковых опечаток; это была единственная посторонняя помощь, к которой мне пришлось прибегнуть. Излишне говорить о том, как уповал я на получение от Сибиллы Шейд массы биографических данных, но она, к сожалению, покинула Нью-Уай еще прежде меня и в настоящее время живет у родственников в Квебеке. Мы, разумеется, могли бы вести плодотворнейшую переписку, но от господ шейдистов так просто не отделаешься. Они стаями ринулись в Канаду и набросились на бедную женщину, как только я потерял контакт с ней и с ее переменчивыми настроениями. Вместо того чтобы ответить на мое месячной давности письмо из моей сидарнской пещеры, где перечислялись некоторые из самых важных вопросов, в том числе вопрос о настоящем имени «Джима Коутса» и т. д., она внезапно ошарашила меня телеграммой с просьбой принять профессора X. (!) и профессора К. (!!) в качестве соредакторов поэмы ее мужа. Как глубоко это поразило и уязвило меня! Естественно, это исключило всякую возможность сотрудничества с введенной в заблуждение вдовой моего друга.
А он и впрямь был моим другом! Согласно календарю, мы были знакомы лишь несколько месяцев, но существует вид дружбы со своей собственной внутренней длительностью, с собственными зонами прозрачного времени, не зависящими от вертящейся зловредной музыки. Я никогда не забуду возбуждения, охватившего меня при известии, как упомянуто в одном из примечаний, до которого читатель дойдет, о том, что пригородный дом (снятый для меня у судьи Гольдсворта, отбывшего в Англию на отпускной год), в который я въехал 5 февраля 1959 года, расположен рядом с домом знаменитого американского поэта, чьи стихи я пытался перелагать на земблянский язык два десятилетия назад! Помимо этого славного соседства, гольдсвортовское шато, как я вскоре понял, не отличалось особыми достоинствами. Система отопления представляла из себя фарс, поскольку зависела от вентиляционных отдушин в полу, откуда тепловатые истечения урчащей и стонущей топки подавались в комнаты со слабостью последнего вздоха умирающего. Залепив выходные отверстия наверху, я пытался направить побольше энергии в гостиную, но ее климат оказался неизлечимо подорванным, так как между ней и арктическими областями не было ничего, кроме тонкой входной двери, без какого-либо признака прихожей – потому ли, что дом этот был построен в разгар лета наивным поселенцем, не имевшим понятия о том, какую зиму припас для него Нью-Уай, или в силу некой старозаветной чопорности, требовавшей, чтобы случайный гость мог через открытую дверь убедиться, что в гостиной не происходит ничего предосудительного.
В Зембле февраль и март (последние два из четырех «белоносых месяцев», как мы их называем) тоже бывали довольно суровыми, но даже в крестьянской избе всегда была равномерная масса тепла, а не сеть убийственных сквозняков. Правда, как обычно случается с новоприезжими, мне объяснили, что я выбрал худшую зиму за много лет, – и это на широте Палермо! В одно из первых моих тамошних утр, когда я собирался отправиться в колледж на только что приобретенном мощном красном автомобиле, я заметил, что г-н и г-жа Шейд, с которыми я до тех пор еще не встречался в обществе (как я узнал впоследствии, они полагали, что я предпочитаю быть оставленным в покое), хлопотали вокруг своего старого «паккарда» на скользком выезде из гаража, где он испускал страдальческий вой, но никак не мог извлечь замученное заднее колесо из ледяного ада выбоины. Джон Шейд неуклюже возился с ведром, из которого он жестами сеятеля разбрасывал по голубой глазури пригоршни бурого песка. Он был в ботах, его викуний воротник был поднят, на солнце его обильная седая шевелюра, казалось, была покрыта инеем. Я знал, что за несколько месяцев до этого он болел, и поспешил к ним, думая подвезти моих соседей до кампуса на своей мощной машине. Мой наемный за́мок был отделен от выезда соседей переулком, огибавшим легкое возвышение, на котором он стоял, и я собирался пересечь его, как вдруг потерял равновесие и сел на удивительно жесткий снег. Мое падение подействовало на седан Шейдов подобно химическому реактиву, – он немедленно тронулся с места и едва не переехал меня, меж тем как Джон энергично гримасничал за рулем, а Сибилла что-то свирепо ему втолковывала. Я не уверен, что кто-либо из них меня заметил.
Однако несколькими днями позднее, а именно в понедельник 16 февраля, меня представили старому поэту за завтраком в клубе академического персонала. «Наконец вручил верительные грамоты», как записано с легкой иронией в моем рабочем дневнике. Вместе с четырьмя или пятью другими заслуженными профессорами я был приглашен к его обычному столу под увеличенной фотографией Вордсмитского колледжа, ошеломленного и облупленного, каким он был запечатлен в удивительно мрачный летний день 1903 года. Меня позабавило его лаконичное предложение «отведать свинины». Я – строгий вегетарианец и предпочитаю сам готовить себе пищу. Как я объяснил моим румяным сотрапезникам, употреблять в пищу что-либо прошедшее через руки другого живого существа мне столь же отвратительно, как есть такое существо, включая – тут я понизил голос – пухлявую студентку с жеребячьим хвостиком, которая прислуживала нам, слюнявя карандаш. Кроме того, я уже покончил с принесенным в портфеле фруктом, сказал я, и потому удовольствуюсь бутылкой доброго колледжского эля. Мое вольное и простое обращение разрядило атмосферу. Посыпались обычные вопросы – о том, приемлемы ли для человека моих убеждений яичные и молочные напитки. Шейд сказал, что его случай скорее обратный: чтобы поесть овощей, ему необходимо совершить усилие. Приступить к салату для него все равно что войти в холодный день в морскую воду, а для атаки на крепость яблока ему надо основательно взять себя в руки. К тому времени я еще не освоился с довольно утомительным шутовством и подтруниванием, принятыми в тесной американской академической среде, и потому воздержался от того, чтобы высказать Джону Шейду в присутствии этих ухмыляющихся старых мужчин мое глубокое восхищение его творчеством, дабы серьезная литературная беседа не выродилась в обыкновенное гаерство. Вместо этого я задал ему вопрос об одном из моих новообретенных студентов, посещавшем также его курс, – замкнутом, тонком, довольно обаятельном мальчике; но старый поэт в ответ мне тряхнул решительно седым чубом и сказал, что давным-давно перестал запоминать имена и лица студентов и из всего семинара поэзии помнит зрительно только вольнослушающую даму на костылях. «Да ну, – сказал профессор Хёрли. – Неужели, Джон, вы ни сном ни духом не помните эту потрясающую блондинку в черном трико из литературного курса 202?» Шейд, лучась всеми морщинками, добродушно похлопал Хёрли по кисти, чтобы тот перестал. Другой инквизитор спросил, правда ли, что я установил у себя в подвале два стола для пинг-понга. «Разве это преступление?» – спросил я. Нет, отвечал он, но зачем же два? «Разве это преступление?» – парировал я, и все рассмеялись.
Несмотря на слабое сердце (см. стих 736), легкую хромоту и некую любопытную неправильность в методе передвижения, Шейд непомерно любил длинные прогулки, но снег мешал ему, и зимой он предпочитал, чтобы после лекций за ним заезжала жена. Несколькими днями позднее, выходя из Партеносиссус-Холла – или Мэйн-Холла (ныне, увы, Шейд-Холла), я увидел его, ожидавшего снаружи приезда г-жи Шейд. С минуту я стоял рядом, на ступеньках входного портика, натягивая палец за пальцем перчатки и посматривая в сторону, как бы готовясь к приему парада. «За совесть стараетесь», – заметил поэт. Он взглянул на часы. На них упала снежинка. «Кристалл на хрусталь», – сказал Шейд. Я предложил подвезти его домой на моем мощном «Крэмлере». «Жены забывчивы, г-н Шейд». Он вскинул лохматую голову и посмотрел на часы на здании библиотеки. Через широкий унылый пустырь покрытого снегом газона, смеясь и скользя, шли два сияющих румянцем юнца в цветистых зимних одеждах. Шейд вновь посмотрел на свои часы и, пожав плечами, принял мое предложение.
Я спросил, не будет ли он возражать, если мы поедем кружным путем, через центр университетского поселка, где я хотел купить печенья в шоколаде и немного икры. Он сказал, что ничего не имеет против. Изнутри супермаркета, сквозь цельное стекло окна, я видел, как мой старичок юркнул в винную лавку. Когда я воротился с покупками, он вновь сидел в машине, читая бульварную газетку, какую, по моим понятиям, ни один поэт не удостоит прикосновения. По уютной отрыжке я понял, что на его тепло укутанной фигуре припрятана фляжка со спиртным. Когда мы въезжали в аллею гаража, к дому как раз подкатила Сибилла. Я вышел из машины в учтивом оживлении. «Раз уж мой муж не считает нужным представлять людей друг другу, – сказала она, – давайте сделаем это сами. Вы ведь доктор Кинбот, да? А меня зовут Сибилла Шейд». Затем она обратилась к мужу, говоря, что он мог бы подождать ее лишнюю минуту в кабинете: она-де и гудела, и кричала, и даже пошла наверх и т. д. Я повернулся, чтоб уйти, не желая оказаться свидетелем семейной сцены, но она окликнула меня: «Выпейте с нами, – сказала она, – то есть, скорее, со мной, потому что Джону запрещено прикасаться к спиртному». Я объяснил, что не могу долго задерживаться, ибо мне предстоит своего рода небольшой семинар на дому и тур настольного тенниса с парой прелестных близнецов и еще одним другим мальчиком, другим мальчиком…
С этих пор я все чаще и чаще видел моего знаменитого соседа. Вид, открывавшийся в одном из моих окон, обеспечивал меня постоянным первоклассным развлечением, в особенности когда я ожидал какого-нибудь позднего гостя. Пока ветви разделявших нас лиственных деревьев оставались обнаженными, со второго этажа моего дома мне было ясно видно окно гостиной Шейдов, и почти каждый вечер я мог наблюдать тихое качание обутой в шлепанец ноги поэта. Из чего можно было заключить, что он сидит с книгой в низком кресле, но ничего, кроме этой ноги и ее тени, ходившей вверх и вниз по стене в тайном ритме сосредоточенной мысли, в густом свете лампы, разглядеть не удавалось. Всегда в одно и то же время коричневый сафьяновый шлепанец падал с одетой в шерстяной носок ноги, которая продолжала качаться, хотя и в несколько замедленном темпе. Было ясно, что надвигается время сна со всеми его страхами, что через несколько минут кончик ноги начнет нащупывать и теребить шлепанец, а затем исчезнет вместе с ним из золотого поля моего зрения, пересеченного черной перевязью ветки. А иногда в нем легко пробегала Сибилла Шейд, спеша и размахивая руками, как бы в припадке раздражения, и немного позднее возвращалась уже гораздо более медленным шагом, как будто простив мужу его дружбу с чудаковатым соседом. Но загадка ее поведения полностью разрешилась однажды вечером, когда, набрав их номер и наблюдая в то же время за окном, я волшебным образом заставил ее произвести весь цикл этих торопливых и вполне невинных движений, столь меня озадачивших.
Увы, моему душевному покою предстояло в скором времени быть нарушенным. Как только в академическом поселке поняли, что Джон Шейд ценит мое общество выше всех прочих, в меня полетели брызги густого яда зависти. От нашего внимания не ускользнуло ваше тихое хихиканье, дражайшая г-жа К., когда после нудной вечеринки в вашем доме я помог усталому старику-поэту найти галоши. Однажды мне случилось зайти в профессорскую факультета английской литературы в поисках журнала с фотографией королевского дворца в Онхаве, которую я хотел показать моему другу, когда услышал, как молодой преподаватель в зеленом бархатном пиджаке – из милосердия назову его Джеральд Эмеральд – небрежно ответил на какой-то вопрос секретаря: «Мне кажется, г-н Шейд уже ушел с Великим Бобром». Это правда, я высок ростом, и моя каштановая борода отличается густотой и глубиной оттенка, – глупая кличка явно относилась ко мне, но не заслуживала внимания, и, спокойно взяв журнал с заваленного брошюрами стола, я удовольствовался тем, что на пути к выходу ловким движением пальцев распустил, проходя мимо Джеральда Эмеральда, его галстук бантом. А еще было утро, когда доктор Натточдаг, глава отделения, при котором я состоял, официальным тоном попросил меня присесть, закрыл дверь и, хмуро опустившись в свое вращающееся кресло, предложил мне «быть поосторожнее». В каком смысле поосторожнее? Некий юноша пожаловался консультанту. Боже правый, на что же он пожаловался? На то, что я критиковал посещаемый им курс литературы («глупейший обзор глупейших работ, преподаваемый глупейшей посредственностью»). Рассмеявшись в совершенном облегчении, я обнял милейшего Неточку и пообещал больше не шалить. Пользуюсь случаем послать ему привет. Он всегда относился ко мне с такой изысканной учтивостью, что я иной раз подумывал, не подозревает ли он того же, что Шейд, что знали наверняка только три человека – два попечителя и президент колледжа.
О, подобных инцидентов было множество. В скетче, разыгранном группой студентов театрального отделения, я был представлен в виде напыщенного женоненавистника с немецким акцентом, постоянно цитирующего Хаусмана и грызущего сырую морковь. А за неделю до смерти Шейда некая неистовая дама, в чьем клубе я отказался читать лекцию о «Халли-Валли» (как она выразилась, смешав чертог Одина с заглавием финского эпоса)[5], сказала мне посреди продуктового магазина: «Вы удивительно неприятный человек. Не пойму, как вас выносят Джон и Сибилла» – и, выведенная из себя моей вежливой улыбкой, добавила: «Кроме того, вы сумасшедший».
Но позвольте мне прекратить этот перечень глупостей. Что бы там ни думали, что бы ни говорили, дружба Джона была мне полным возмещением. Эта дружба была еще драгоценнее для меня из-за нарочито скрываемой нежности, в особенности когда мы бывали не одни, из-за грубоватости, происходящей от того, что можно определить как достоинство души. Все его существо представляло собой маскарадный наряд. Внешний вид Джона Шейда так мало соответствовал роившимся в нем гармониям, что возникало желание отмести его как грубую личину или преходящую моду; ибо если мода романтической эпохи утончала мужественность поэта обнажением его привлекательной шеи, утончением профиля и отражением горного озера в его овальном взоре, барды нынешнего дня, благодаря, очевидно, бо́льшим возможностям долголетия, выглядят как гориллы или стервятники. Лицо моего возвышенного соседа заключало в себе нечто способное даже нравиться взгляду, если бы оно было только львиным или только ирокезским; к несчастью, совмещая в себе то и другое, оно напоминало лишь лицо мясистого хогартовского пьяницы неопределенного пола. Его бесформенное тело, обильная седая грива густой шевелюры, желтые ногти его пухлых пальцев, мешки под тусклыми глазами – все это становилось понятным, только если рассматривалось как отбросы, элиминированные из его истинного существа теми же силами совершенствования, которые очищали и чеканили его стихи. Он сам себя погашал.
У меня есть одна его фотография, особенно мне дорогая. На этом цветном любительском снимке, сделанном в яркий весенний день моим бывшим приятелем, Шейд изображен опирающимся на крепкую трость, принадлежавшую некогда его тетке Мод (см. стих 86). На мне белая непромокаемая куртка, приобретенная в местном магазине спортивных товаров, и пара лиловых штанов родом из Канн. Моя левая рука наполовину поднята – не затем, чтобы похлопать Шейда по плечу, как это может показаться, но чтобы снять темные очки, до которых, однако, она так и не дотянулась в той жизни, жизни снимка; библиотечная книга, зажатая под моей правой рукой, – это трактат об одной земблянской разновидности гимнастики, которой я намеревался заинтересовать моего юного жильца, сделавшего эту фотографию. Неделей позже он обманул мое доверие, гнусно воспользовавшись моим отсутствием во время поездки в Вашингтон, вернувшись откуда я обнаружил, что он развлекался с огневолосой экстонской шлюхой, оставившей свои очески и вонь во всех трех ванных. Разумеется, мы тотчас же расстались, и в просвет оконных занавесок я мог видеть негодника Боба, стоявшего довольно трогательно со своими волосами ежиком, с облупленным чемоданом и лыжами, которые я ему подарил, в ожидании товарища по клубу, чтобы навсегда с ним уехать. Я могу простить все, кроме измены.







