
Владимир Трив
СССР «Советская» власть. Краткий очерк
4. Первая мировая война
В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну. В России эту войну назвали «Вторая Отечественная война» по аналогии с Отечественной войной 1812 года. Началась Первая мировая война с объявления войны 28 июля 1914года Австро-Венгрией – Сербии, затем Россия, считавшая себя обязанной защитить братский славянский народ, объявила, вопреки просьбе Германии не делать этого, всеобщую военную мобилизацию, затем Германия объявила войну России (1 августа), Франции (3 августа) и Бельгии (4 августа); 4 августа Британская империя объявила войну Германии, …, 1 ноября Россия объявила войну Турции …
Русское общество встретило вступление в войну с чувством огромного патриотизма: массы людей просилось на фронт, богатые дома и усадьбы отдавались под госпитали для раненых, женщины даже аристократического происхождения добровольно шли работать медсестрами в госпитали и на фронт. Но война и ее тяготы затянулись во времени.
Партия большевиков, которая к тому времени насчитывала несколько десятков тысяч членов, вела активную работу, нацеленную на поражение России в войне (Ленин и его соратники считали, что чем хуже будет положение людей в России, тем больше шансов поднять «массы» на вооруженное восстание). На фронт специально для пропаганды отправлялись члены партии, где они призывали солдат к братанию с немцами (такие случаи действительно имели место во второй половине войны), объясняли, что эта война – империалистическая, затеянная помещиками и капиталистами, и трудящихся разных стран заставляют воевать друг против друга, призывали к созданию Советов солдатских депутатов, неподчинению офицерам. Партия большевиков получала финансовую помощь от германского правительства на ведение антивоенной пропаганды в армии и среди населения. Ключевой фигурой в схеме финансирования большевиков являлся Александр Парвус. Подробности о его деятельности стали известны после Второй мировой войны с захватом американцами архивов германского МИДа. В Первой мировой войне погибло 3,2 миллиона жителей России, с немцами с 1914 до 1917 года воевали только на окраинах России, не допустив их не только до Москвы, но даже и в центральную Россию.
5. А. Парвус. Священник Гапон. Революция 1905-1907 г. Финансирование большевиков Германией
Парвус был одним из организаторов революции 1905 года в России.
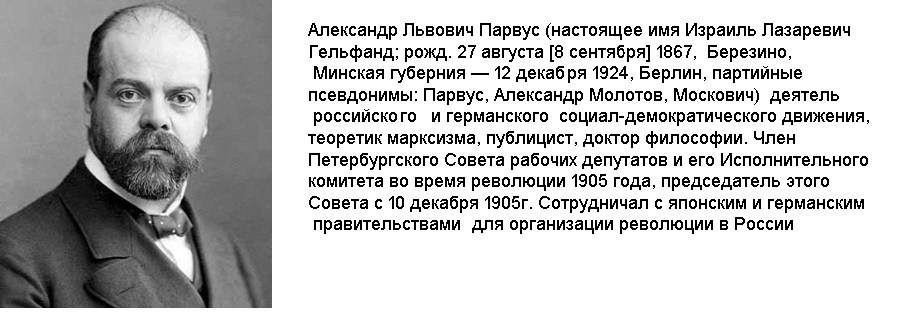
Имя А. Парвуса среди социал-демократии в начале 20 века было связано со скандалом. С 1902 года Парвус был литературным агентом М. Горького [4, с.116] в Европе; его стараниями пьеса «На дне» была поставлена в Германии, где имела исключительный успех, обошла все театры и в одном только Берлине выдержала 500 представлений. Часть суммы, полученной от этих постановок, составила агентский гонорар самого Парвуса, другую он должен был передать Горькому, третью – в партийную кассу РСДРП; но, как утверждал Горький, кроме Парвуса, никто своих денег не получил. По жалобе Горького дело Парвуса в начале 1908 года рассматривала партийная комиссия в составе А. Бебеля, К. Каутского и К. Цеткин; Парвус был морально осуждён и исключён из обеих партий. Сумма, присвоенная Парвусом, составила 180 тысяч золотых марок.
В последний период Русско-Японской войны Парвус заручился поддержкой японского правительства для организации революции в России. Часть денег он присвоил, а часть потратил на организацию III съезда РСДРП, газету «Вперед» и провокации, первой из которых стали события на Дворцовой площади 9 января 1905 года (в последующем эта дата получила название «Кровавое воскресенье»), когда нанятые Парвусом агенты, в составе мирной демонстрации петербургских рабочих, возглавляемой священником Гапоном, открыли стрельбу по солдатам, стоявшим у Зимнего дворца. Те открыли ответный огонь, что привело к многочисленным жертвам – 150 … 200 человек убитыми (по официальным данным царского правительства – 130 человек убитыми, но они не учитывали, что часть пострадавших не попала в морги и больницы).
Священник Гапон
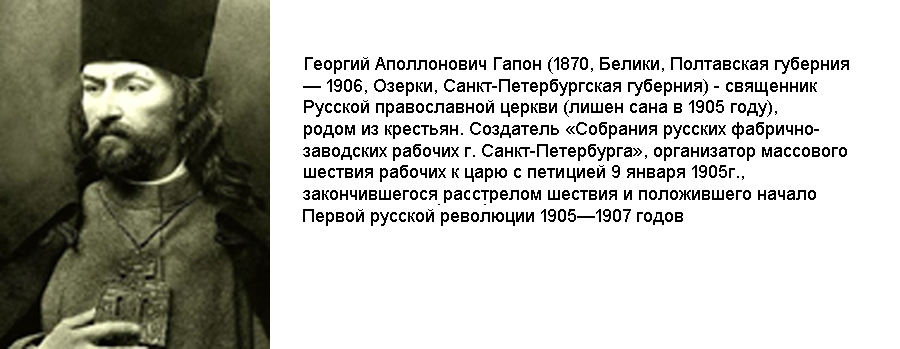
В 1900 году Гапон был назначен на должность настоятеля сиротского приюта в Санкт-Петербурге. Одновременно Гапон работал в среде питерских рабочих и бедняков, среди которых он скоро приобрёл огромную популярность. Он отстаивал бедных от различных несправедливостей; наталкиваясь на сопротивление чиновников, Гапон говорил: «До царя дойду, а своего добьюсь».
6 января Гапон призвал рабочих обратиться со своими нуждами непосредственно к царю – с жёнами и детьми идти 9 января в 2 часа дня к Зимнему дворцу. Он составил текст петиции на имя царя. Предисловие включало в себя описание бедственного положения и бесправия рабочих и требование немедленного созыва Учредительного собрания. В кратком заключении Гапон от имени рабочих писал: «Вот, Государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к Тебе! Повели и поклянись исполнить их, и Ты сделаешь Россию счастливой и славной, а имя своё запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена. А не повелишь, не отзовёшься на нашу мольбу, – мы умрём здесь, на этой площади, пред Твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем! У нас только два пути: – или к свободе и счастью, или в могилу. Укажи, Государь, любой из них, мы пойдём по нему беспрекословно, хотя бы это и был путь к смерти. Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России! Нам не жалко этой жертвы, мы охотно приносим её!» – Г. А. Гапон. Петиция рабочих Санкт-Петербурга для подачи царю Николаю II. Красная летопись. – Л.: 1925. – № 2. – С. 1.
6, 7 и 8 января текст петиции зачитывался во всех отделах «Собрания», и под ним собирались десятки тысяч подписей. Говорил Гапон просто и искренне и легко овладевал аудиторией. В конце речи Гапон требовал от рабочих поклясться, что они придут в воскресенье на площадь и не отступятся от своих требований, даже если им будет угрожать смерть. По свидетельству очевидцев, толпа, возбуждённая Гапоном, пребывала в состоянии религиозной экзальтации. Люди плакали, топали ногами, стучали стульями, бились кулаками в стены и клялись, как один, явиться на площадь и умереть за правду и свободу. Люди складывали пальцы крестиками, показывая, что эти требования для них святы и их клятва равносильна присяге на кресте. Популярность самого Гапона в эти дни достигла небывалых размеров. Многие видели в нём пророка, посланного Богом для освобождения рабочего народа. Женщины подносили к нему для благословения своих детей. Люди видели, с какой лёгкостью останавливались огромные фабрики и заводы, и приписывали это «силе» Гапона.
Прокурор Петербургской судебной палаты писал в записке на имя министра юстиции:
«Названный священник приобрёл чрезвычайное значение в глазах народа. Большинство считает его пророком, явившимся от Бога для защиты рабочего люда. К этому уже прибавляются легенды о его неуязвимости, неуловимости и т. п. Женщины говорят о нём со слезами на глазах. Опираясь на религиозность огромного большинства рабочих, Гапон увлёк всю массу фабричных и ремесленников, так что в настоящее время в движении участвует около 200 000 человек. Использовав именно эту сторону нравственной силы русского простолюдина, Гапон, по выражению одного лица, «дал пощёчину» революционерам, которые потеряли всякое значение в этих волнениях, издав всего 3 прокламации в незначительном количестве. По приказу о. Гапона рабочие гонят от себя агитаторов и уничтожают листки, слепо идут за своим духовным отцом. При таком направлении образа мыслей толпы она, несомненно, твёрдо и убеждённо верит в правоту своего желания подать челобитную царю и иметь от него ответ, считая, что если преследуют студентов за их пропаганду и демонстрации, то нападение на толпу, идущую к царю с крестом и священником, будет явным доказательством невозможности для подданных царя просить его о своих нуждах». – Записки прокурора Петербургской судебной палаты министру юстиции 4—9 января 1905 г. Красный архив. – Л.: 1935. – № 1. – С. 48.
Чтобы обеспечить мирный характер движения, Гапон вступил в переговоры с представителями социал-демократов и эсеров: «Пойдём под одним знаменем, общим и мирным, к нашей святой цели». Он убеждал их присоединиться к мирному шествию, не прибегать к насилию, не выбрасывать красных флагов и не кричать «Долой самодержавие!». Гапон выражал уверенность в успехе движения и полагал, что царь выйдет к народу и примет петицию. В случае, если царь примет петицию, он возьмёт с него клятву немедленно подписать указ о всеобщей амнистии и о созыве всенародного Земского собора. После этого Гапон выйдет к народу и махнёт белым платком, – и начнётся всенародный праздник. Если же царь откажется принять петицию и не подпишет указ, он выйдет к народу и махнёт красным платком, – и начнётся всенародное восстание. В последнем случае всем разрушительным силам, к которым Гапон причислял и революционеров, предоставлялась полная свобода действий. «Тогда выбрасывайте красные флаги и делайте всё, что найдёте разумным», – говорил Гапон. Таким образом Гапону удалось привлечь революционеров на свою сторону, и они вполне подчинились общему движению.
Чтобы не дать властям повода применить силу, Гапон решил придать движению максимально мирный характер. По словам очевидца, Гапон «грозно требовал и заклинал – и весь народ громогласно повторял вслед за ним в собраниях эту клятву – не прикасаться к спиртным напиткам, не иметь при себе оружия, даже перочинных ножей, и не применять грубой силы при столкновении с властями». По распоряжению Гапона изо всех отделов Собрания были выделены особые дружины, общим числом до тысячи человек, которые должны были наблюдать за порядком во время мирного шествия.
8 января товарищ министра внутренних дел К. Н. Рыдзевский подписал ордер на арест Гапона. Однако арестовать его не удалось, так как Гапон был окружён плотной толпой рабочих.
9 января процессии из разных районов города с хоругвями, иконами, портретами царя и большим белым флагом с надписью: «Солдаты! Не стреляйте в народ!» двинулись к Дворцовой площади. Возле Нарвской заставы процессию атаковал отряд кавалерии. Гапон скомандовал: «Вперёд, товарищи! Или смерть, или свобода!» – после чего толпа сомкнула ряды и продолжала движение. В это время по толпе были произведены ружейные залпы, и первые ряды повалились на землю. Залпами были убиты ближайшие соратники Гапона – рабочий Иван Васильев и телохранитель М. Филиппов, шедшие рядом с ним. Сам Гапон получил лёгкое ранение в руку и был повален на землю общим напором толпы. После последнего залпа задние ряды обратились в бегство, и шествие было рассеяно. Этот день вошёл в историю под названием «Кровавого воскресенья».
По настоянию эсеров Гапон выехал из Петербурга в Женеву – главный центр зарубежной деятельности русских революционеров. В это время о священнике-революционере писали все европейские газеты, и имя его было у всех на слуху. В короткое время Гапон приобрёл за границей такую славу, какой в прошлом не пользовался ни один русский революционер. Гапон вскоре сблизился с эсерами, виделся Гапон также с теоретиком анархизма князем Кропоткиным и высоко оценил взгляды последнего. Чтобы подготовить народ к восстанию, Гапон писал революционные воззвания. Так, в «Воззвании ко всему крестьянскому люду» он писал: «Вперёд же, братцы, без оглядки назад, без сомненья да малодушья. Быть не должно возврата для богатырей-героев. Вперёд! Наступает суд, грозный суд, страшный суд над всеми нашими обидчиками, за все наши слёзы, стоны ведомые и неведомые. Разобьёмте оковы, цепи своего рабства. Разорвёмте паутину, в которой мы, бесправные, бьёмся! Раздавим, растопчем кровожадных двуногих пауков наших! Широким потоком вооружённого народного восстания прокатимся по всей русской земле, сметём всю нечисть, всех гадов смердящих, подлых ваших угнетателей и стяжателей. Разобьём вдребезги правительственный насос самодержавия – насос, что кровь нашу из жил тянет, выкачивает, поит, вскармливает лиходеев наших досыта. Да здравствует же народное вооружённое восстание за землю и волю! Да здравствует же грядущая свобода для всех вас, о российския страны, со всеми народностями! Да здравствует же всецело от рабочего трудового народа правление (Учредительное Собрание)! И да падёт вся кровь, имеющая пролиться – на голову палача-царя да на голову его присных!».
В феврале 1905 года Гапон выступил с инициативой созыва межпартийной конференции, которая должна была объединить все революционные партии России в деле вооружённого восстания. Идея такой конференции принадлежала финскому революционеру К. Циллиакусу. Гапон встречался с представителями одиннадцати революционных партий России – эсеров, меньшевиков, большевиков, Бунда, «Союза освобождения» и различных национальных партий. Женевская межпартийная конференция состоялась в апреле 1905 года. Председательствующим на ней был избран Гапон. Большевики и меньшевики отказались объединится и покинули конференцию.
В мае 1905 года Гапон на короткое время вступил в партию эсеров. Едва вступив в партию, он потребовал, чтобы его ввели в центральный комитет и посвятили во все конспиративные дела. В этом ему было отказано, и Гапон остался недоволен, так как не мог смириться с положением рядового члена партии. Гапон давал характеристику революционных партий: социал-демократов называл «талмудистами» и «фарисеями», а про эсеров говорил, что его не удовлетворяет их программа и тактика.
Идеология его новой организации строилась на принципе народной самодеятельности: чтобы «организация пролетариата в Рабочую партию велась бы снизу самим пролетариатом, а не сверху, оторванными от жизни интеллигентами
К осени 1905 года резко ухудшились отношения Гапона с революционными партиями. Попытка Гапона создать «Рабочий Союз» на внепартийной основе вызывала тревогу у революционеров, опасавшихся утратить влияние на рабочие массы. Идеология гапоновского «Союза» строилась на лозунге «рабочие для рабочих» и на недоверии к партийной интеллигенции. Революционные партии видели в Гапоне конкурента в борьбе за влияние на рабочих и поэтому обвиняли его в сотрудничестве с полицией, провокаторстве, стремлении к богатству. Но, как показали исследования после его смерти, Гапон был аскетом, бессеребренником, честным, бескорыстным человеком, который мог отдать последние сапоги или свои деньги нуждающимся.
17 октября 1905 года императором Николаем II был издан Высочайший Манифест, даровавший жителям России гражданские свободы. Одной из свобод, дарованных Манифестом 17 октября, была свобода собраний. У бывших членов «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» появилось желание и возможность восстановить свою организацию.
В конце января Гапон написал на имя министра внутренних дел П. Н. Дурново письмо, известное под названием «покаянного письма» Гапона. В своём письме он, в частности, писал: «…9 января – роковое недоразумение. В этом, во всяком случае, не общество виновато со мной во главе…». Вскоре в прессе началась широкомасштабная кампания против Гапона и его окружения. Связь Гапона с правительством Витте, одинаково ненавистным как левым, так и правым партиям, сделала его одиозной фигурой, авторитет Гапона стал падать.
Гапон решил с помощью боевой организации эсеров совершить громкое убийство представителя власти, имея целью, во-первых, снять с себя обвинения о сотрудничестве с властями и, во-вторых, дать новый толчок революции. Его план состоял в том, чтобы эсер П. Рутенберг предложил себя полиции в качестве платного тайного сотрудника, агента-провокатора, который бы сообщал полиции о всех готовящихся эсерами террористических актах, но на самом деле заманил бы высокопоставленного полицейского или чиновника в ловушку. Гапон просил у полиции и предлагал Рутенбергу 50-100 тысяч рублей. Получилось так, что и в глазах полиции, и в глазах эсеров Гапон выглядел провокатором.
28 марта 1906 года Георгий Гапон выехал из Петербурга в Озерки по Финляндской железной дороге на встречу с представителем партии эсеров П. Рутенбергом, обещав к вечеру вернуться. Он был убит в Озерках группой боевиков-эсеров (по указанию ЦК партии эсеров боевики специально были отобраны по происхождение из рабочих-эсеров). Так как ЦК партии эсеров принял решение убить Гапона только одновременно с полицейским при передаче денег или переговорах (но Гапон приехал на встречу один), а, со слов П. Рутенберга, это решение ЦК до него доведено не было, то ЦК партии эсеров более двух лет не брал на себя ответственность за убийство Гапона.
Вернемся к Парвусу. За этим последовали налёты на банки, волнения в Кронштадте, Севастополе, Свеаборге, восстания на броненосцах «Потёмкин» и «Очаков». На протяжении всей весны и лета 1905 года Парвус призывал российских рабочих захватывать власть и формировать социал-демократическое правительство «рабочей демократии» и в октябре принял решение приехать в Россию лично для принятия участия в революционной борьбе на месте. В октябре 1905 года, с началом Всероссийской стачки, Парвус по подложному паспорту прибыл в Петербург. Как и Троцкий, ученик Парвуса, он опередил многих других эмигрантов-революционеров, которые вернулись в Россию только после провозглашённой царём амнистии. Троцкий и Парвус приняли непосредственное участие в создании Петербургского совета рабочих депутатов и вошли в его Исполнительный комитет, с 10 декабря 1905г. он – председатель Петербургского Совета рабочих депутатов По словам Г. Л. Соболева, 1905 год стал «звёздным часом» Парвуса; он писал статьи и прокламации, был одним из тех, кто определял стратегию и тактику Петербургского совета и составлял проекты его резолюций, выступал с пламенными речами в Совете и на заводах, был популярен и влиятелен. В 1906 году Парвус был арестован и провёл несколько месяцев в Петропавловской крепости, имея возможность шить себе на заказ костюмы и шёлковые галстуки. Его приезжали навестить один из лидеров немецких социал-демократов К. Каутский и близкая подруга Парвуса Р. Люксембург. (Немного о Розе Люксембург: она приветствовала большевистскую революцию 1917 года в России, но уже в 1918 году она так писала о большевиках: «С подавлением свободной политической жизни во всей стране жизнь и в Советах неизбежно все более и более замирает. Без свободных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь отмирает во всех общественных учреждениях, становится лишь подобием жизни, при котором только бюрократия остается действующим элементом… Это диктатура клики… Свобода обязательно должна быть и свободой для тех, кто мыслит иначе»).
9 января 1915 года Парвус, находившийся тогда в Константинополе, делает первое предложение германскому послу о разжигании революции в России и раздроблении этой страны; заинтересованный посол предлагает ему составить меморандум для МИДа, который и был подан 11 марта. В этом меморандуме на 20 страницах, под заглавием «Подготовка массовой политической забастовки в России», излагался подробный план организации революции по образцу революции 1905 года (всеобщая забастовка, выступления национальных окраин и т. п.). Ударной силой в выполнении этого плана Парвус видел большевиков: «План может быть осуществлён только под руководством русских социал-демократов. Радикальное крыло этой партии уже приступило к действиям. Но важно, чтобы к ним присоединилась и умеренная фракция меньшевиков. Пока такому объединению препятствовали только радикалы. Но две недели назад их лидер Ленин сам поставил вопрос об объединении с меньшевиками». Поэтому первоочередной задачей Парвус ставил следующее: «Финансовая поддержка социал-демократической фракции большевиков, которая всеми имеющимися средствами продолжает вести борьбу против царского правительства. Следует наладить контакты с её лидерами в Швейцарии».
На осуществление этого плана Парвус запрашивал год, а его стоимость оценивал в 5 миллионов золотых марок. План был принят, и Парвусу немедленно выделено 2 миллиона марок. Часть этих денег Парвус передал большевикам на приобретение типографских станков и выпуск газет и листовок, часть присвоил себе.
После февральской революции канцлер Германии уполномочил германского посла в Берне фон Ромберга войти в контакт с русскими эмигрантами и предложить им проезд в Россию через Германию. Одновременно (3 апреля) МИД запросил у казначейства 3 миллиона марок на пропаганду в России. Деньги были выделены.
Ленин, после некоторых колебаний, принял немецкое предложение. 9 апреля русские эмигранты во главе с Лениным направились из Цюриха к германской границе, где пересели в опломбированный вагон, сопровождавшийся офицерами германской разведки. 13 апреля эмигранты прибыли в Стокгольм. По прибытии в Стокгольм Ленин отказался от встречи с Парвусом (и просил «товарищей» письменно засвидетельствовать этот факт; видимо, как человек с юридическим образованием он понимал, что улик преступлений оставлять нельзя: о том, что Парвус является агентом германского правительства, знали уже в России все), но Радек (Зобельсон) провел в переговорах с ним весь день – как полагают, именно на этой встрече и были сформулированы условия финансирования большевиков. По прибытии Ленина в Стокгольм было созвано совещание большевиков, на котором было образовано Заграничное бюро ЦК в составе Ганецкого, Радека и Воровского. Как показывают обнаруженные в 1961 г. документы, переписка Заграничного бюро с Парвусом шла через Берлин шифрами германского МИДа. Ленин прибыл в Петроград вечером 3 (16) апреля 1917г. и вскоре выступил со знаменитыми апрельскими тезисами, призывающими к борьбе против войны и полной ликвидации в России государственного аппарата и армии. 12 (25) апреля он телеграфирует Ганецкому и Радеку в Стокгольм просьбу о высылке денег: «Дорогие друзья! До сих пор ничего, ровно ничего: ни писем, ни пакетов, ни денег от Вас не получили». 10 дней спустя он уже пишет Ганецкому: «Деньги (две тыс.) от Козловского получены. Пакеты до сих пор не получены… С курьерами дело наладить нелегко, но всё же примем все меры. Сейчас едет специальный человек для организации всего дела. Надеемся, ему удастся всё наладить». Деньги большевикам шли через Якова Ганецкого (Фюрстенберга) – члена Заграничного бюро ЦК РСДРП(б); Мечислава Козловского – члена Петербургского районного комитета партии и при этом члена Исполкома Петросовета и ВЦИК. Деньги переводились из Берлина через посредство акционерного общества «Дисконто-Гезельшафт» в стокгольмский «Ниа Банк», а оттуда в «Сибирский Банк» в Петрограде, где сальдо счёта Козловского в июле составляло более 2 000 000 рублей. 8 (21) апреля, один из руководителей немецкой разведки в Стокгольме телеграфировал в МИД в Берлин: «Приезд Ленина в Россию успешен. Он работает совершенно так, как мы этого хотели бы». Уже в середине апреля 1917 года благодаря коменданту станции Торнео поручику Борисову, было перехвачено и доставлено в контрразведку Петроградского военного округа несколько писем, адресованных в Копенгаген Парвусу. Письма содержали фразы вроде «работа продвигается очень успешно», «мы надеемся скоро достигнуть цели, но необходимы материалы», «присылайте побольше материалов», «будьте архи-осторожны в сношениях» и т. д. Графологическая экспертиза определила руку Ленина. Расследованием занимался выдающийся юрист Российской империи П. А. Александров. Всего Временное правительство собрало 21 том следственных материалов (уничтоженных после октябрьского переворота). Снабжение деньгами Ленина продолжалось и после Октябрьского переворота (конкретных обязательств Ленин при этом не давал). По опубликованным в современной немецкой печати (последняя публикация – в журнале «Der Spiegel» в декабре 2007 года) сведениям из открытых источников германского МИДа, российские большевики получили от германского министерства иностранных дел только в течение четырёх лет – с 1914 и до конца 1917 г. средства для свержения российской монархии – в виде наличных денег и оружия – на сумму в 26 млн райхсмарок, что соответствует сегодняшним 100 миллионам евро. Еще больше денег Ленин получил не от МИД, а от немецкого генерального штаба и Австрии, а также, как утверждают некоторые историки, был и другой поток денег, идущий из США с Уолл-стрит от Якова (Якоба) Шиффа – как считают некоторые историки – главного спонсора русской революции. По-видимому, Ленин напрямую денег от германского правительства не получал и никаких обещаний не давал (хотя были какие-то подозрительные события, например, двухдневное пребывание Ленина во время войны в германском посольстве в Швейцарии), но большевистская партия деньги получала, и он об этом знал.


