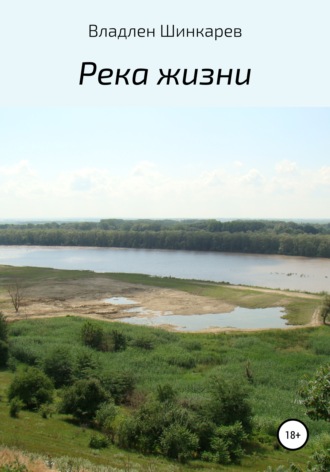
Владлен Петрович Шинкарев
Река жизни
Грустная история
Любил ли маму мой отец? Я так и не понял. Это осталось загадкой, которая меня всегда тревожит до сих пор, хотя мою голову уже давно покрыла седина. Моя ранняя память помнит только мои осторожные чувства к родителям, когда он после очередной женитьбы, оказавшись выброшенным на улицу, перебрался к нам жить.
Жили мы тогда на окраине большого города, жили бедно, нуждались во всём. В узкой комнате, побелённой известью, находились скудный наш скарб: две узкие кроватки занимали почти половину комнаты, огромный, как будто барский стол, кем-то выброшенный на свалку, неуклюже притулился у окна, из-под него всегда торчали две табуретки. Ворча и причитая, нашла мама место и для моей гордости: этажерки с книгами. Я только что поступил в сельскохозяйственный институт, нет – не по призванию, а по нужде.
Сколько себя помню в детстве, никогда не видел на столе целую буханку хлеба: такая была норма. Через всю свою жизнь пронёс особую любовь к хлебу. Поэтому мой выбор профессии был связан с особым отношением к хлебу, как божеству. Решил – стану агрономом, буду выращивать хлеб.
Хлеб – моя первая любовь, пронесенная через всю жизнь, а литература – моя вторая и поздняя любовь, которой пришлось изменить в юности по нужде, не осмысленно. Получил аттестат зрелости, а вместе с ним – рекомендацию на филологический факультет, но вдруг неожиданно для своей учительницы, сделал непредсказуемый выбор в своей жизни, о котором в последствии ни разу не пожалел.
В один из вечеров я задержался в институте. Надвигалась в моей жизни первая студенческая сессия. Войдя в дом, я заметил, что наша единственная комната в коммуналке перегорожена занавеской.
– Что это за маскировка? – спросил недоумённо. И слышу в ответ:
– Отец вернулся.
Только хотел спросить: «Зачем он нам нужен после стольких лет твоего одиночества и моей безотцовщины?» Но глянул на счастливые глаза матери, и мне стало её жалко. Молча, пошел на свою половину.
Вдруг слышу чьи-то задубенелые шаги по коридору и громкий стук в дверь. Мать подбежала, щелкнула щеколдой – и обратно в постель. Я принял вошедшего человека за соседа, перепутавшего дверь в тёмном коридоре. В помятом пальто, в какой-то старой шапке с отогнутыми ушами, весь в снегу. Едва он выгнулся, стряхивая с себя снег, еле держась на ногах, и тот час рухнул на пол в зимнем пальто. Он был настолько пьян, что и слова не мог сказать, хотя бы для приличия поздороваться.
Мать бросилась к отцу и стала стягивать с него верхнюю одежду, то и дело поглядывая на меня. Вдвоём мы кое-как раздели отца и уложили в постель. Он что-то невнятное бормотал, возможно, просил прощения, по – детски подумал я. Всю ночь отец храпел, стонал и что-то бормотал, а мать то и дело вскакивала с постели, поднося ему в кружке холодную воду, тихо успокаивала его.
Утром рано, глядя на храпевшего почти чужого мне человека, я отправился в институт с тяжёлыми раздумьями. Я уже был и не рад такому возвращению отца, всякие мысли одолевали меня. Я понимал, что это временное явление, как бывало раньше, когда ему становилось в жизни плохо, он вдруг вспоминал нас, и на короткое время возвращался в семью. И мать всегда его принимала, всё прощала, как мне казалось, с легкостью. Меня всегда это бесило. С каждым его приходом быстро начиналась новая сытая жизнь, но так, же быстро она и заканчивалась. Но на этот раз, не испытывая никаких сыновних чувств, мне хотелось, чтобы он задержался у нас как можно дольше. Я сознавал, что так матери этого хочется, ей легче с ним, да и мне сытней. Весь день я стремился как можно быстрей закончить предэкзаменационные дела в институте, возвратиться домой и повидать трезвого отца. Когда пришёл домой, отца не застал, мама хлопотала у печки, в комнате пахло сытно и аппетитно. Я спросил: «А этот где?»
– Уехал за своими вещами, – бросила через плечо мать. Я снова, как в прошлый раз, заволновался. Мама сразу же уловила мою нервозность и попыталась успокоить, потрепала мои волосы, приговаривая:
– Никуда не денется твой отец!
– А вдруг та женщина простит его снова? – дрожащим голосом вымолвил я, глядя в глаза матери. Мать испугалась на мгновение, а потом твёрдо и выпалила:
– Да что он, рёхнулся, что ли? Ещё месяц тому назад он сам просил меня соединиться с семьёй. Я просто тебе не говорила, чтобы не волновать. А сама долго думала, как поступить! Понимаешь, он слаб и беззащитен, если его сейчас не приму, то он пропадёт: сопьётся.
Я молчал, а мама продолжала: «Сынок, есть такие люди, которые всегда кажутся безобидными, хотя и знаешь, что они эгоистичны и жестоки. Создаётся впечатление, что они невинны, хотя и случается быть свидетелем их мерзких поступков. Но, когда человек любит, а я люблю твоего отца, то готов всё простить любимому, чтоб только оставаться рядом с ним и видеть его ежедневно. Я знаю, тебе кажется, что я без меры доверчива и глупа и могу быть обманута кем угодно. Нет! Просто я хочу помочь твоему отцу. Ты меня поймешь когда-нибудь». С этими словами она всепрощающе посмотрела на меня, надеясь на понимание и согласие. Я же думал о том, как люди безалаберны из-за своих пороков, из-за полного безволия, находясь во власти любви.
Было, попытался готовиться к зачётам, но мысли упрямо не хотели проникать в память. Бесполезно читая конспекты лекций, медленно, не дождавшись приезда отца, заснул.
Проснулся от того, что мать в какой-то довольной, но несколько пугливой спешке будила меня:
– Отец приехал!
Мгновенно вскочил и, улыбаясь, пошёл навстречу отцу. В тот вечер мы долго сидели единой семьёй за столом. Не припомню, чтобы мы были когда-нибудь так счастливы.
Обычно, когда отец переезжал к нам жить, то более месяца он у нас не задерживался. Когда я был маленький, почему-то винил мать и меньше обращал внимание на недостатки отца. Теперь, повзрослев, стал многое понимать: дело не в матери. Дня не проходило, чтобы к вечеру, к концу рабочего дня он не был пьян. Моя мать всегда его защищала – мол, у него такая сложная работа: едут из сёл руководители хозяйств и все с могарычём – вот и спаивают честного человека. Нет, мать не плакала, она, молча в себе, переносила это горе, отроду не видевшая ничего, кроме недоли. А сейчас я сидел за столом и ловил себя на мысли: неужели всё наладится, и мы будем счастливо, беззаботно жить!
Перевалило за полночь, но никто не хотел спать. На ночь отец устроился на полу, рядом с кроватью матери. На пол мать положила теплое одеяло, в изголовье фуфайку, укрыв отца каким-то покрывалом.
За это время нашей счастливой, но короткой совместной жизни отца назначили заместителем начальника краевого управления сельхозхимии. Новая работа полностью его захватила и в то же время потащила в какой-то омут. Участились выпивки на работе, в кругу сомнительных друзей и женщин. Мать ужасали те перемены, которые с ним происходили, но сил с этим бороться у неё не хватало. Она считала, что он, при всей жестокости к ней, порядочен, честен, поэтому никогда его не контролировала, давала полную свободу действий и выбора.
Он признавал, что он не прав, но совесть в нём не просыпалась, как того желала мама. Вскоре он переехал жить на дачу. Я наведывался к нему часто: идти туда нужно было пешком по мосту через Кубань, а потом по берегу километров пять. Не всегда отец пускал меня в дачный дом. Из раскрытых окон, которых всё лето вываливался папиросный дым, весёлый шум мужских и женских голосов. Правда, когда я приходил к нему, он убеждал меня взять деньги или кусок мяса. Я же никогда не отказывался, хотя знал, что мама будет злиться и ругаться. Он всегда спешил быстро отделаться от меня: не терпелось возвратиться в захмелевшую компанию. Я уходил с досадным огорчением, что нет у него никогда времени поговорить со мной задушевно, по-отцовски: спросить об учёбе, о матери, о моих увлечениях. К моей жизни он никогда не проявлял интереса.
Наступила осень. Возобновились занятия в институте, и я всё реже и реже стал к нему приходить на дачу. После бабьего лета зачастили дожди, ночью стало подмораживать, в один из вечеров по грязной дороге я отправился на дачу. Сердце-то болит, как отец? Смотрю, замок, нахожу сторожа, и узнаю, что мой отец уже месяц здесь не появляется. Последний раз, мол, видел его с молодой красивой женщиной, на служебной «Волге». Матери ничего не сказал, но она вскоре сама запретила мне ходить к отцу. Они с сестрой между собой начали говорить о нем презрительно, вскользь, намекая на распутство. Чуть не каждый месяц женится, да разженивается!
В тревогах: в холоде, да и в голоде прошла зима. По весне у мамы обострились раны, полученные на войне. Чтобы поддержать семью, я стал ходить подрабатывать вечерами на стеклотарном заводе, укладывал в вагоны многолитровые банки. Уже, будучи на третьем курсе института, я попросил у матери разрешения сходить к отцу на работу, одолжить денег на её лечение. «Не унижайся, – твердила она неоднократно, – вот окончишь институт, и заживём мы тогда с тобой богато!» Я не спорил, боялся её обидеть. Что греха таить, отца видеть хотелось. И помог случай!
По весне неожиданно узнаю, что в нашу футбольную команду «Кубань», которая первый год участвовала в высшей лиге, приглашён играть мой двоюродный брат. Я стал посещать все футбольные матчи с его участием.
Как-то раз, выходя из стадиона после матча, лоб в лоб столкнулся с отцом и его новой женой. Это была красивая, жизнерадостная женщина, модно и изящно одетая. – Лидия Владимировна, – представилась она. Как – то свободно и легко взяв меня под руку, предложила: – Сейчас поедим к нам, отметим встречу и знакомство. Я стал неуклюже отказываться, придумывая на ходу всякие небылицы. Но, подойдя к машине, она эллегатно посадила меня в салон служебного автомобиля и мы поехали. Всю дорогу, она то и дело твердила, что хотела со мной давно познакомиться, и уже собиралась пойти в институт на поиски. Я же понимал, что эти слова она произносит ради приличия. Я молчал, а отец только кивал головой, во всём с ней соглашаясь. Мы подъехали вскоре к большому дому, у калитки которого нас встречала пожилая женщина, как потом оказалось, новая тёща отца. Когда мы вошли в дом, я был ошарашен: такой роскоши я до сих пор нигде не видел. Моё волнение отец сразу заметил, повел в сад, стараясь увлечь общим для нас обоих разговором. Он с гордостью показывал новые сорта фруктовых деревьев, цветы и свою оранжерею. Я знал, что отец очень любил свою профессию агронома, считал её самой нужной для человека и самой гуманной на земле. Я готов был бродить по саду долго, хоть всю жизнь. Но здесь появилась Лидия Владимировна и твёрдым голосом пригласила к столу. За изысканно, со вкусом сервированным столом я не знал, куда деть руки, боялся опростоволоситься. Лидия Владимировна это сразу заметила, непринужденно стала ухаживать, не обращая внимания на мою застенчивость, шутила и смеялась. Вскоре и я был очарован этой женщиной. Позже я узнал, что она научный сотрудник института садоводства и виноградарства, живут они с отцом уже три года счастливо, несмотря на большую разницу в возрасте. И еще: у Лидии Владимировны нет детей и не будет.
Я сидел и смотрел, как она ласково, но настойчиво она находила моменты упрекнуть отца за пьянство, подчеркивая каждый раз, что не перестанет с этим бороться.
Уже поздно ночью все пошли провожать меня до трамвайной остановки. И здесь неожиданно Лидия Владимировна заинтересовалась: «Когда у тебя должна быть шестимесячная производственная практика? Куда собираешься ехать, в какое хозяйство?» и, повернувшись к отцу: «Петенька, а можно ли помочь?» Я с гордостью заявил, что еду от кафедры земледелия проводить научную студенческую работу в одном из хозяйств Ново-Покровского района.
Садясь в пустой вагон, я успел сказать на ходу, что выезжаю на днях. Пустой трамвай уносил меня в реальную страшную действительность, где дома ждала одна нищета и убогость. Отец с Лидией Владимировной ещё долго стояли на остановке под ярким фонарём, пока трамвай не скрылся с виду. Дома я заметил, что мама взволнована, мои тревоги только усилились. Отвечал на ее расспросы молчанием. Но ложась спать, дал себе слово, что никогда не буду так жить бедно и убого! Через несколько дней укатил на практику в самый отдалённый и засушливый район края.
Коза
Как хочется иногда плюнуть на все дела, выбросить из головы домашнюю суету и уехать куда-нибудь подальше от дома. В последнее время даже жена стала раздражать. Думаю, не к хорошему – всё это, надо менять обстановку. А тут и друзья, как раз кстати, пригласили в горы, в Кабардино – Балкарию.
Собирались в дорогу спонтанно, как в тумане, правда, жена заверяла: всё идёт по плану. В машину сложили ворох её вещей. Рядом с нашими рюкзаками красовался огромный кожаный чемодан с еще не оборванной биркой таиландского аэропорта. На крышке его взгромоздилась огромная соломенная шляпа, а летний зонтик волновал воображение легкомысленными шелковыми рюшами. Я возмутился, тыча пальцем в эту пирамиду:
– Зачем все это в горах нужно?
Моя женушка посмотрела так красноречиво, что я уже знал, какой ответ последует:
– На всякий случай!
Продуктов захватили на целый месяц, четырёх спальную палатку и надувные матрацы еле втиснули в багажник. Я ей осторожно объясняю:
– У друзей остановимся. А она в ответ:
– Пригодится!
Сутки собирались, да нет, наверное, больше.
Помню хорошо, во время сборов жена всё время с претензиями ко мне: то я удочку забыл, то посуду с ведром не прихватил. Когда выехали со двора, наконец, успокоившись, промолвила облегченно:
– Сколько можно шататься по морям, по этим пятизвёздочным отелям. Отдохнём, как обычные люди, подлечим нервы, забудем про дела и повседневные заботы.
Через сутки добрались до места отдыха в отдалённый аул республики, природа дивная: рядом горная река – журчит, вода чистая – пьёшь и не напьёшься, воздух чист – не надышишься. Просто рай!
День ползаем по горам с одышкой городской, без привычки; второй день по лесным тропам – грибы собираем. Куда и городская бессонница делась! Утром разбудить жену не могу, завтрак приходится готовить самому.
На третий день друзья пригласили в гости, у них что ни день – то праздник. Заходим к друзьям во двор… и здесь моя жена, всплеснула руками и ахнула, да так громко, что друзья на ногах еле устояли:
– Батюшки, бельё-то стиранное я с веревки не сняла, когда уезжала!..
И весь вечер только об этом белье и разговора, как будто с друзьями нельзя ни о чём, о другом поговорить. А ведь с собой взяли ноутбук с фотографиями достижений детей и внуков, наших заграничных поездок, хоть художественную выставку организовывай.
Что делать? Я успокаиваю: во дворе бельё никто не украдёт, а она возражает: а выгорит, пылью покроется, что мама скажет, ее дорогой подарок?
Наконец пытливый ум моей жены находит выход:
– Иди на почту, отправь соседке телеграмму, чтобы бельё сняла. Не забудь указать, где ключ находится, чтобы комнатные цветы полила. Не возвращаться же нам домой из-за такого пустяка.
Приезжаю на почту, беру бланк, заполняю:
– Горах зпт дома не скоро зпт снимите бельё зпт ключ собачьей будкой тчк.
Девушка на почте долго вычитывает телеграмму, а потом с решимостью работника ФСБ, заявляет:
– Такую телеграмму я отправить не могу! Это шифровка!
Я, естественно, возмутился, смотрю на неё удивлёнными глазами и ласково – трепетно заявляю:
– Как же так не можете?!
А сам от неё глаз не могу оторвать. Она смущённо и говорит:
– Что вы так смотрите на меня растерянно. Ничем помочь не могу! Идите к начальству.
Я кинулся к начальнику почты. После долгих объяснений начальник почты соглашается отправить телеграмму, но только после его правки. Что делать, соглашаюсь, не гореть же белью на солнце синим пламенем.
Когда телеграмму отправили, начальник почты привычно успокаивающим тоном объясняет:
– Знаете, в горах много бродит всякого люда, и все на одно лицо, не поймёшь: то ли отдыхающий, то ли турист, то ли бандит!
На последнем слове, я аж встрепенулся, но промолчал. Рад, что телеграмма хоть спокойно ушла. Буквально на следующий день получаем телеграмму:
– Бельё сняла зпт козу загнала сарай тчк.
Думаю, при чём здесь коза, когда её у нас и помине не было. Видно, на почте текст перепутали. Не в первой…
Махнули мы рукой на эту телеграмму и в горы подались. Приходим через пару суток к друзьям, а они нам еще одну телеграмму показывают, а у самих с испуга руки дрожат:
– Немедленно выезжайте зпт козой заинтересовалась полиция тчк.
Тут-то не до смеха, какой там отдых. Быстро собрались и домой. Через восемь часов напряжённой поездки: кругом ведь видеокамер понавесили, сильно не разгонишься, подъезжаем прямо ко двору соседки. Та с налету затараторила:
– Захожу во двор снимать бельё, смотрю, коза уже одну простынь дожёвывает, за вторую берётся. Я же вспомнила, Нюра, как ты говорила: «Вот куплю дойную козу, да мужа подлечу, а то в последнее время на меня и не смотрит»
Я в недоумении смотрю на жену и слово не могу вымолвить. А соседка и продолжает:
«Ну, думаю, соседи дают: купили козу, выпустили пастись, уехали, а загнать забыли. Я её и загнала в ваш сарай. На следующий день ко мне и заявился участковый наш, Палыч. Мол, так да этак, пропала коза у бабы Любы, что через двор от вас живёт. Выпустила она её в огород пастись, бросилась под вечер загонять, а козы и след простыл. Она в полицию, по горячим следам заявление накатала. Стал Палыч пытать меня, не видела ли я, как кто-то из наших пьяниц эту козу в свой двор загонял. Зачем грех на себя брать, я и показала, где коза стоит. Участковый и вручил вам повестку в полицию, как только вы появитесь дома. Я-то понимаю, дело тюрьмой пахнет, как не пожалеть вас: приедете отдохнувшие, и прямо в тюрьму. Тут же вам телеграмму и отбила»
Я, плохо скрывая злость и досаду, дал же бог соседей, впихнул нашу «спасительницу» в машину и прямиком поехал в отделение полиции. Отделались лёгким испугом. Теперь моя жена меньше ко мне придирается: а то ведь как раньше было – что не случится в доме, я один виноват!
Умный директор
Сейчас развелось столько умных руководителей – один ужас, диву даёшься! Если такими темпами будем и дальше двигаться, то смотришь, в ближайшее время нас, простых тружеников, и не останется. Берегли богатство страны. Спрашивается для кого?
Для умников, которые только и думают день и ночь, как карманы свои набить. Причём никого из них не волнует, чья эта собственность: частная или общенародная.
А последнее понятие они специально из своего лексикона выбросили. Так легче воровать без зазрения совести и стыда. Более того, модно стало этим богатством кичиться, до неприличия хвастаться, унижая тем самым свой же честный народ. Нас сейчас уверяют, что прежнее время было плохое, почти никчемное, «застойное». Но как-то странно получается, к застойным показателям вот уже на протяжении двадцати лет никак приблизиться не можем. Сознавая своё превосходство перед прошлым, мы не улучшаем настоящую жизнь, не украшаем её морально по совести, а калечим всё – то хорошее, что у нас было. А мы в короткое время под одобрительные крики безумных и бездарных людей всё разорили в прах и пустили гулять по ветру дым отчизны.
Мысли эти натолкнули написать рассказ об умном директоре нашего института. Нет его уже давно в живых. Но меня гложет совесть, что при его жизни он так и не услышал от меня добрых и справедливых слов в его адрес.
Короче говоря, едим мы как-то в Главк, в Москву, на научно-технический совет. Только сели в поезд, Василий, заведующий лаборатории и мой лучший друг, достаёт бутылку ереванского коньяка. В купе ещё учёный секретарь нашего института и ведущий химик. Осушили мы эту бутылочку на четверых довольно быстро. А закуска-то то ещё осталась: яйца, сало, окорок, лучок. Разве эта выпивка, при такой-то закуске? Здесь химик и достаёт бутылку чистого спирта – ректификат. Проводница быстро принесла боржоми.
И, как это всегда бывает, тост за тостом, шутка за прибауткой моего друга так развезло, что он и забыл, где находится. Одуматься бы Василию, почему он один говорит, а все молчат? Так он же, давай-ка высказывать всё наболевшее учёному секретарю, при этом каждый раз попрекая директора: то в недальновидности, то в грубости, то в хитрости, то в коварстве. Прошло два года, как его избрали по конкурсу на должность зав. лаборатории, а ему, видите ли, квартиру до сих пор не предоставили.
Смотрю, мой друг башку свою умную крутит, и ещё пуще давай критиковать заведённые порядки в институте. Я его одёргиваю, но он не унимается. Видно, поколбаситься перед уважаемыми учёными очень охота. Мало ему учёного совета! Дескать, он такой человек единственный в учёном совете, знает, в каком направлении должна развиваться наша отечественная наука.
Меня это так взбесило, что я плюнул и полез на верхнюю полку спать.
Я уже голову положил на подушку и слышу, как кто-то заходит в купе. Смотрю, наш новый заместитель директора по науке, недавно из Москвы прислали с дальним прицелом на руководство. А на Васю прыть такая напала, которой даже не было в научной деятельности. Ученый секретарь, степенный и осторожный человек, понимая, что дело приобретает серьёзный оборот, выходит быстро из купе. А химик, как самое ядовитое существо учёного совета, подначивает моего друга и только знает, что подливает в стакан горячительного напитка.
Слышу, зам. директора института по науке так осторожненько предлагает:
– Вы, Василий Иванович, не могли бы поведать обо всем этом на ближайшем учёном совете.
И здесь же начинает расхваливать моего друга за смелость научных идей и за свежие научные мысли. Мой друг, грудь колесом, и гордо покачивая головой, еле слышно соглашается:
– А почему бы и не выступить!
Я буквально с верхней полки чуть и не свалился. Но чётко помню, хмель быстро прошла от такого предложения, и я покурить в тамбур, приглашая своего друга за компанию.
Но его уже было невозможно оторвать от стола и разговора, тем более появился такой понимающий слушатель.
Я вышел из купе, а на душе кошки скребут, да жалобно стучат колёса вагона. Так под стук колёс мы и добрались до Москвы. Успешно отчитались, и в таком же порядке и темпе обратно возвратились в Краснодар.
Вышел я из вагона, а ветер с какой-то неимоверной силой стал надувать моё пальто, предупреждая о буйном характере здешних ветров. Казалось, паровоз был готов забрать меня с собой до Чёрного моря. Но встречавшие поезд люди были на удивление так улыбчивы и вежливы, и так не похожи на затурканных москвичей. И я вздохнул радостно: «Что значит родина!»
Меня ничуть не удивило, что нам подали институтский автобус, довольные, мы расселись, и каждый из нас стал думать о своём. В автобусе воцарилась тишина.
Вот уже и наш жилой городок, но автобус почему – то промчался мимо, направляясь в институт. Я смотрел на удаляющиеся дома и думал: «Какое счастье, что сразу же после института я попал сюда работать, что судьба меня свела с моим научным руководителем Кайдаш Анастасией Семеновной и с директором института Рудневым Евгением Дмитриевичем!»
Сейчас даже представить трудно, чтобы за пять лет кто-то мог бы построить на пустыре такой большой жилой городок и самый огромный научный центр на Кубани. А тогда, при дефиците стройматериала и рабочей силы, Руднев все проблемы решил успешно и более того подготовил научные кадры, которые были способны решать любые научные задачи в области биологии.
Я задумался, ещё не зная, что через какие-то шесть лет директор уйдёт на пенсию по болезни, а через два года после этих событий – уйду и я из института, не сумев привыкнуть к стилю работы нового директора. А пока живое время бежало не ведая, что нас ждёт впереди, оно на моих глазах сокращалось, предупреждая, что мало осталось мне работать в науке. Последние песчинки лабораторных часов осыпались, приближая конец двадцатого века.
Я очнулся от размышлений, когда мой друг усиленно трепал меня за плечо, твердя:
– Выходим, приехали!
Директор нас встретил радушно, показывая всем своим видом удовлетворение, всё время в разговоре подчёркивая, как это важно для института в этом году успешно отчитаться о проделанной работе. Еще бы, в третий раз переходящее Красное знамя Совета Министров СССР нам вручили. На этой высокой тональности зам. директора и доложил о поездке в Москву. Директор поблагодарил нас за успешную работу, как бы намекая, что все свободны.
– А Вы, Василий Иванович, задержитесь, – обратился директор к моему другу.
«Такая скверная штука, – сразу подумал я. – С чего бы его он оставил? Неужели уже доложили? И когда? Не думал я, что это делается так мгновенно»
Мысли тем временем уже летели в голове, как лихие кони и попробуй их остановить, если не знаешь как!
Потом Василий мне рассказывал: «Сел я за стол, где обычно проходит учёный совет и понял, разговор будет нелицеприятный – тяжёлый и долгий. Наболтал точно я в поезде в три короба, не соврал ты. Директор присел за стол напротив меня, и по-отечески, как будто у себя дома, стал вспоминать всё то, что я подзабыл в суматохе всяких дел, как пришёл в институт на работу лаборантом, как рос мой авторитет, как часто прощал мои научные ляпсусы и временные загулы. Так на душу капал, что захотелось убраться вон из кабинета и не смотреть бесстыжими своими глазами в добрые глаза директора. А он тем временем как-то мягко, но настойчиво говорит: „Ну что, Василий, никто не заставляет тебя работать с директором – дураком“ И подаёт мне чистый лист бумаги и ручку. Пишите, мол, заявление по собственному желанию. А у меня таких-то желаний и нет. Беру дрожащими руками ручку и бумагу, а у самого мысли: где я найду при такой скверной репутации такую высокооплачиваемую работу. Честное слово, при таком штопоре, я не смог сам писать заявление, всё делал машинально под диктовку директора. Пока я его писал – семь потов пролил. Конечно, плохо, что так всё хорошо начиналось и так плохо заканчивается, но делать нечего, подаю злосчастную бумагу директору. А тот не раздумывая, подписывает, и отправляет меня в отдел кадров. Встаю из-за стола, ноги пудовые, даже шага не могу сделать в сторону дверей. Эка незадача, сколько стоял, не помню. Директор видит мое замешательство и вдруг с чувством победителя, молча, берет мое заявление и медленно рвет его. А потом так тихонько, почти на ухо шепчет: «Жаль! Умной голове дурной язык достался, иди, работай, да знай с кем можно пить, и кому душу свою изливать. Кто-то поможет, а кто-то утопит». Веришь, я, не сходя с места, сел на стул и только смог промолвить:
– Простите меня дурака!
– Прощаю, прощаю, иди, работай!»
Тут можно было бы, рассказ и закончить, но было бы несправедливо: с тех пор, куда бы мой друг ни уезжал, с кем бы он не встречался – всюду и всегда повторял одну и ту же фразу:
– Какой у нас умный директор!
А ежели в другой раз и собирались в моём гараже обсудить дела учёного совета, то и от слегка захмелевшего друга мы слышали одно и то же:
– Какой у нас умный директор!


