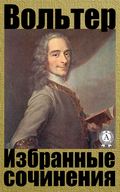Вольтер
Царевна Вавилонская
6
Вскоре царевна вавилонская и Феникс приехали в империю киммерийцев, правда, значительно менее населенную, чем Китай, но вдвое превосходящую его размерами, когда-то ничем не отличавшуюся от Скифии, но с некоторых пор ставшую такой же цветущей, как государства, которые чванятся тем, что просвещают другие страны.
После нескольких дней пути Формозанта прибыла в большой город, украшению которого способствовала царствующая императрица [25]. Ее в городе не было: она в ту пору объезжала страну [26] от границ Европы до границ Азии, желая собственными глазами увидеть своих подданных, узнать об их нуждах, найти средства помочь им, умножить благосостояние, распространить просвещение.
Один из главных сановников этой древней столицы [27], уведомленный о прибытии вавилонянки и Феникса, поспешил устроить царевне торжественную встречу, уверенный, что его государыня, самая любезная и самая блестящая из цариц, будет ему благодарна за то, что он оказал столь высокой особе те же почести, какие оказала бы она сама.
Формозанте отвели покои во дворце, от которого отогнали докучливую толпу. В ее честь устраивали затейливые празднества. Когда царевна удалялась в свои покои, киммерийский вельможа – великий знаток естественных наук – много беседовал с Фениксом, который поведал ему, что когда-то уже побывал в стране киммерийцев и что теперь этой страны не узнать.
– Каким образом в столь короткий срок совершились такие благодетельные перемены? – удивлялся он. – Не минуло еще и трехсот лет с тех пор, как здесь во всей своей свирепости господствовала дикая природа, а ныне царят искусства, великолепие, слава и утонченность.
– Мужчина положил начало этому великому делу, – ответил киммериец, – а продолжила его женщина. Эта женщина оказалась лучшей законодательницей, чем Изида египтян и Церера [28] греков. Большинство законодателей обладало мыслью ограниченной и деспотической, замкнувшей их кругозор пределами той страны, которой они управляли. Каждый рассматривал свой народ как единственный на свете или же как народ, обреченный жить во вражде с другими. Эти законодатели создавали учреждения каждый только для своего народа, вводили обычаи только для него одного и только для него одного придумывали религию. Вот почему египтяне, столь прославленные своими нагромождениями камней, опустились до скотского состояния и опозорили себя варварскими суевериями. Они смотрят на остальные народы как на невежд, они не вступают с ними в сношения, и, за исключением царского двора, который иногда пренебрегает низменными предрассудками, вы не встретите ни одного египтянина, который согласился бы есть из того же блюда, каким пользовался чужестранец. Их жрецы жестоки и тупы. Лучше совсем не иметь законов и следовать только велению природы, запечатлевшей в сердцах наших понятие добра и зла, чем подчинять общество столь диким законам.
Наша императрица преследует совершенно иные цели. Она рассматривает свое обширное государство, которое обнимает все меридианы, как существующее для всех народов, живущих на этих меридианах. Первым законом, изданным ею, был закон о свободе вероисповеданий и терпимости ко всякого рода заблуждениям. С присущей ей гениальностью она поняла, что если вероисповедания различны, то законы нравственности повсюду одинаковы. Руководясь этим убеждением, она породнила свой народ с народами всего мира, и киммерийцы относятся к скандинавам и китайцам, как к братьям. Она сделала больше: пожелала, чтобы эта драгоценная веротерпимость, это основное звено, связующее людей, утвердилось бы и у ее соседей [29]. Таким образом, она заслужила имя матери своего народа и заслужит имя благодетельницы рода человеческого, если будет настойчиво преследовать свою цель.
До нее люди, к сожалению, облеченные властью, посылали орды убийц грабить неизвестные племена и обагрять их кровью земли, доставшиеся им от предков. Этих убийц называли героями, а разбой венчали славой. Наша государыня прославлена иным: она посылает свои войска, чтобы водворять мир, чтобы препятствовать людям причинять друг другу зло, чтобы заставлять их относиться друг к другу терпимо, и ее знамена – это знамена всеобщего умиротворения.
Восхищенный всем услышанным, Феникс сказал: – Сударь, я живу на свете двадцать семь тысяч девятьсот лет и семь месяцев, но никогда не приходилось мне видеть ничего подобного тому, о чем вы рассказываете.
Он спросил, известно ли вельможе что-нибудь о его друге Амазане. Киммериец рассказал то же самое, что рассказывали царевне у скифов и в Китае. Едва лишь какая-нибудь придворная дама назначала Амазану свидание, как он, боясь уступить ее домогательствам, покидал очередной императорский двор. Феникс поторопился сообщить Формозанте об этом новом доказательстве постоянства ее возлюбленного, постоянства тем более примечательного, что, по убеждению Амазана, царевна так никогда и не узнает об этом.
Он отбыл в Скандинавию. В этой стране Амазана поразили картины, до сей поры им не виданные. Тут королевская власть и свобода не враждовали между собой [30] – их связывал союз, немыслимый в других государствах [31]. Земледельцы принимали участие в законодательстве наравне с вельможами, а юный правитель [32] подавал блестящие надежды на то, что он станет достойным главой свободной страны. Но еще удивительнее было то, что единственный король, который являлся самым неограниченным властелином на земле в силу договора со своим народом, был одновременно и самым молодым и самым справедливым.
У сарматов Амазан застал на троне философа [33]. Его можно было назвать «королем анархии», ибо он являлся главою сотни мелких правителей, из которых каждый мог одним словом отменить решение всех остальных. Эолу легче было управлять непрестанно спорящими между собой ветрами, чем этому монарху примирять все противоречивые стремления. Он был словно кормчий, чей корабль несется по разбушевавшемуся морю и меж тем не разбивается. Король был превосходным кормчим.
Проезжая эти страны, столь отличные от его родины, Амазан упорно бежал вставших на его пути соблазнов, ибо, постоянно терзаясь мыслью о поцелуе, подаренном Формозантой фараону, он все больше укреплялся в своем поразительном намерении показать царевне пример верности, неколебимой и вечной.
Царевна и Феникс следовали за ним по пятам, отставая лишь на один-два дня. Он был неутомим в своем стремлении вперед, она – в стремлении нагнать его.
Так пересекли они всю Германию, восхищаясь успехами разума и философии в северных краях. Властители там были просвещенные и поощряли свободу мысли. Их воспитание отнюдь не доверялось людям, которые по непониманию или из корысти вводили бы будущих монархов в обман. Они с младых ногтей уважали нравственные правила и презирали суеверия. Во всех этих государствах был уничтожен бессмысленный обычай, ослаблявший и приводивший к вымиранию многие южные страны, – обычай погребать заживо в обширных узилищах [34] множество людей обоего пола, навеки разлучая их друг с другом, ибо несчастных вынуждали дать клятву, что они никогда не будут общаться между собой. Это ужасное безумие, веками поощряемое, опустошало землю не меньше, чем самые жестокие войны.
Северные правители поняли наконец, что если хочешь, чтобы конный завод процветал, то не следует отделять самых сильных жеребцов от кобылиц. Северяне уничтожили также и другие не менее странные и не менее вредные заблуждения. Наконец-то люди на этих бесконечных просторах осмелились стать разумными, тогда как в других странах еще держались убеждения, будто народами можно управлять лишь до тех пор, пока они тупоголовы.
7
Амазан приехал в Батавию [35]. Его омраченная печалью душа все же испытала сладостное чувство, когда он увидел страну, отдаленно напоминавшую счастливый край гангаридов: свобода, равенство, опрятность, изобилие, веротерпимость. Но женщины там были столь холодны, что ни одна из них не попыталась, как это было повсюду, прельстить его. Ему не пришлось проявить стойкость. Если бы он обратил внимание на этих дам, то легко покорил бы их одну за другой, не будучи любим ни одной. Но он далек был от мысли о победах над сердцами.
Когда Амазан жил среди этого бесцветного народа, Формозанта чуть было не настигла его. Она опоздала, можно сказать, всего лишь на мгновение.
В Батавии Амазану так расхвалили некий остров Альбион, что он решил погрузиться вместе со своими единорогами на корабль, который, подгоняемый попутным восточным ветром, за четыре часа доплыл до берегов этой земли, более прославленной, нежели Тир и остров Атлантида.
Прекрасная Формозанта, следовавшая за ним берегом Двины, Вислы, Эльбы и Везера, добирается наконец до устья Рейна, вливавшего тогда свои быстрые воды в Немецкое море.
Она узнает, что ее дорогой возлюбленный поплыл к берегам Альбиона. Ей кажется, что вдали еще мелькает его корабль. Она не в силах сдержать радостных восклицаний, вызывающих изумление женщин Батавии, которые не представляют себе, что молодой человек может явиться причиной такого восторга. Что же касается Феникса, то на него они не обращали никакого внимания, считая, что его перья меньше годятся на продажу, чем перья гусей или местных болотных птиц. Царевна вавилонская наняла или зафрахтовала два корабля, которые должны были перевезти ее со свитой на тот счастливый остров, чьим гостем вскоре станет единственный предмет ее желаний, дыхание ее жизни, кумир ее сердца.
В то самое мгновение, когда верный и несчастный Амазан уже вступал на берег Альбиона, вдруг, на беду, подул западный ветер. Суда вавилонской царевны не смогли отплыть. Глубокая печаль, горькая тоска, тяжкая скорбь охватили Формозанту. Горюя, легла она в постель; она надеялась, что ветер вот-вот переменится, но он дул с неистовой яростью целую неделю, и всю эту неделю, которая показалась царевне столетием, Ирла читала ей вслух романы. Это не значит, что батавцы умели их писать, но, будучи всемирными посредниками, они точно так же торговали мыслями других народов, как и их товарами. Царевна приказала купить у Марка-Мишеля Рея [36] все сказки, написанные в странах авзонов и вельхов [37], где распространение этих сказок было мудро воспрещено с целью обогатить Батавию. Царевна надеялась отыскать в книгах что-нибудь похожее на ее злоключения и тем усыпить свое горе. Ирла читала, Феникс высказывал свое мнение, а царевна не находила ни в «Удачливой крестьянке» [38], ни в «Софе» [39], ни в «Четырех Факарденах» [40] ничего, хоть отдаленно напоминавшего ее собственную жизнь. Она ежеминутно прерывала чтение, спрашивая, откуда дует ветер.
8
Тем временем Амазан в карете, запряженной шестеркой единорогов, уже подъезжал к столице Альбиона, грезя о царевне. Вдруг он заметил экипаж, съехавший в канаву. Слуги разбежались в поисках помощи, а сам хозяин спокойно сидел в экипаже, не выказывая ни малейшего нетерпения, и тешил себя курением, ибо в то время уже курили. Его звали милорд What-then, что в переводе на тот язык, на который я перекладываю эту историю, означает приблизительно милорд «Ну-и-что-ж».
Амазан поспешил ему на выручку. Он поднял экипаж без посторонней помощи – настолько сила его превосходила силу других людей.
Милорд Ну-и-что-ж ограничился тем, что сказал:
– Вот так силач!
Приведенные слугами крестьяне обозлились на то, что их напрасно потревожили, и накинулись на чужеземца. Они поносили его, обзывая «чужеземным псом», и хотели отколотить.
Амазан схватил каждой рукой двоих и отбросил на двадцать шагов. Остальные преисполнились к нему почтением, стали кланяться и просить на водку. Он дал им денег больше, чем они когда-либо видели. Милорд Ну-и-что-ж сказал:
– Вы внушаете мне уважение. Пообедайте со мной в моем загородном доме, он отсюда всего в трех милях.
Он сел в карету Амазана, так как его собственный экипаж был поломан.
Помолчав четверть часа, милорд взглянул на Амазана и спросил:
– How dye do – то есть в буквальном переводе: «Как делаете вы делать?» – а по смыслу: «Как вы поживаете?» – что на любом языке ровно ничего не означает. Затем он добавил: – У вас прекрасная шестерка единорогов. – И продолжал курить.
Амазан сказал, что единороги к услугам милорда, что он приехал из страны гангаридов, и, воспользовавшись случаем, стал рассказывать о царевне вавилонской и роковом поцелуе, подаренном ею фараону Египта. На все это милорд не ответил, так как ему не было никакого дела ни до египетского фараона, ни до вавилонской царевны. Протекло еще четверть часа в молчании, после чего он снова осведомился у своего спутника: «Как он делает делать», – и едят ли в стране гангаридов сочный ростбиф. С присущей ему вежливостью путешественник ответил, что на берегах Ганга не принято есть своих собратьев, и изложил учение, ставшее спустя много столетий учением Пифагора, Порфирия и Ямвлиха [41]. Милорд тем временем заснул и проспал до тех пор, пока не подъехали к дому.
Он был женат на прелестной молодой женщине, которую природа одарила столь же впечатлительной и чуткой душой, сколь равнодушной ко всему была душа ее мужа. В этот день к ней на обед съехались несколько вельмож Альбиона, люди самого разного нрава, так как страной почти всегда управляли иностранцы, и приехавшие с этими правителями знатные семейства привезли с собой и самые разнообразные обычаи. Среди собравшихся были и очень учтивые люди, и люди возвышенного ума, и люди ученые.
Хозяйка дома не была ни застенчивой, ни неуклюжей, ни чопорной, ни жеманной, в чем упрекали в ту пору молодых женщин Альбиона. Она отнюдь не прикрывала надменной осанкой и напускной сдержанностью отсутствие мыслей, а неловкостью и смущением – неспособность их выразить. Не было женщины пленительнее, чем она. Миледи приняла Амазана с присущей ей любезностью и приветливостью. Исключительная красота юного иностранца и разительное несходство с ее супругом, которое она невольно подметила, сильно взволновали ее.
За обедом она усадила Амазана рядом с собой и потчевала его всевозможными пудингами, зная с его слов, что гангариды не едят тех, кто получил от творца священный дар жизни.
Красота Амазана, его мужественность, нравы гангаридов, расцвет искусств, религия и образ правления в их странах – вот что являлось предметом приятной и содержательной беседы во время обеда, затянувшегося до ночи, в продолжение которого милорд Ну-и-что-ж много выпил и не произнес ни слова.
После обеда, в то время как миледи разливала чай, пожирая глазами юношу, он беседовал с членом парламента, – ибо всякому известно, что еще тогда существовал парламент, именовавшийся Витенагемот [42], что означает «Собрание умных людей». Амазан расспрашивал о конституции, о нравах, о законах, об армии, обычаях, искусствах – обо всем, что делало эту страну столь заслуживающей внимания. И собеседник рассказал ему следующее:
– Мы долгое время ходили голые, хотя климат отнюдь не располагал к этому. К нам долго относились как к рабам люди, которые явились из древней страны Сатурна [43], омываемой водами Тибра. Но мы сами принесли себе гораздо больше зла, чем наши первые завоеватели. Один из наших королей [44] до того унизился, что объявил себя подданным священнослужителя, обитавшего тоже на берегах Тибра и прозванного «Старцем семи холмов» [45]. Этим «семи холмам» суждено было долгое время владычествовать над большей частью Европы, населенной в ту пору варварами.
После времен унижения наступили века жестокости и анархии. Междоусобицы опустошили и залили кровью нашу землю, где свирепствовали бури, более жестокие, чем на омывающих ее морях. Несколько венценосцев были казнены [46]. Более ста принцев крови окончили жизнь на эшафоте [47]. Всем их приверженцам вырвали сердца и хлестали их этими сердцами по лицам. Историю нашего острова должен был бы писать палач, ибо все великие дела заканчивала его рука.
В довершение ужасов недавно несколько человек, одни в черных плащах, другие в белых рубахах, надетых поверх курток, будучи укушены бешеными собаками, заразили бешенством всю страну [48]. Ее граждане стали либо убийцами, либо жертвами, либо палачами, либо мучениками, либо хищниками, либо рабами, – все это во имя неба и в поисках бога.
Кто мог бы поверить, что из этой страшной бездны, из этого хаоса распрей, свирепости, невежества и фанатизма возникнет в конце концов самый, быть может, совершенный в мире образ правления? Почитаемый и богатый король, могущественный, когда речь идет о благих делах, и лишенный прав совершать злые дела, стоит во главе свободного, воинственного, предприимчивого и просвещенного народа. Люди знатные, с одной стороны, представители городских сословий – с другой, разделяют с монархом законодательную власть.
Мы убедились, что, по роковому стечению обстоятельств, стоило королям добиться неограниченной власти, как неурядицы, гражданские войны, анархия и нищета начинали раздирать страну. Спокойствие, богатство, общее благосостояние воцарялись у нас лишь тогда, когда государи отрекались от неограниченной власти. Все становилось вверх дном, когда разгорались споры о предметах невразумительных, и все опять приходило в порядок, когда на них переставали обращать внимание. Теперь наш победоносный флот прославляет нас по всем морям. Законы охраняют наши богатства: судья не может истолковать их произвольно или вынести приговор, не имея на то веских оснований. Мы как убийц покарали бы тех судей, которые осмелились бы приговорить к смерти гражданина, не приведя доказательств, уличающих его, и закона, карающего это преступление.
Правда, у нас все еще существуют две партии [49], ведущие борьбу с помощью пера и интриг; но они неизменно объединяются, когда надо с оружием в руках защищать родину и свободу. Обе эти партии бдительно следят друг за другом и не дозволяют одна другой осквернять священную сокровищницу законов. Они ненавидят друг друга, но любят отчизну. Это ревнивые влюбленные, которые как нельзя лучше служат одной и той же владычице.
Благодаря тем же разумным основаниям, которые помогли нам понять и отстоять права человеческой природы, мы подняли науки на такую высоту, какой они только способны достигнуть у людей. Ваши египтяне, которые слывут столь великими механиками, ваши индусы, которых почитают столь мудрыми философами, ваши вавилоняне, похваляющиеся тем, что в продолжение четырехсот тридцати тысяч лет наблюдали движение небесных светил, греки, вложившие в такое множество слов так мало мыслей, – все они решительно ничего не знают по сравнению с любым нашим школьником, изучающим открытия наших великих ученых. В течение одного столетия мы вырвали у природы больше тайн, чем род человеческий за бессчетные века.
Таково сейчас положение вещей. Я не утаил от вас ничего – ни хорошего, ни дурного, ни наших падений, ни нашей славы, и ничего не преувеличил.
Слушая эти речи, Амазан почувствовал сильное желание познать все высокие науки, о которых ему рассказали. И если бы его истерзанным сердцем не владела столь безраздельно страсть к вавилонской царевне, сыновняя почтительная привязанность к покинутой им матери и любовь к отчизне, он всю свою жизнь прожил бы на острове Альбионе. Но роковой поцелуй, подаренный его царевной египетскому фараону, так затемнил ему разум, что мешал погрузиться в науку.
– Признаюсь, – сказал он, – что, решив странствовать по свету и бежать от самого себя, я охотно посетил бы древнюю землю Сатурна, этот народ, живущий на берегах Тибра и на семи холмах, которому вы некогда подчинялись. Должно быть, это самый совершенный народ на всем земном шаре.
– Советую вам предпринять это путешествие, – сказал альбионец, – особенно если вы любите музыку и живопись. Мы сами очень часто ездим туда развеять нашу хандру. Но вы будете немало удивлены, увидев потомков наших завоевателей.
Беседа их была длительной. Хотя прекрасный Амазан был слегка поврежден в рассудке, однако он говорил так приветливо и таким за душу берущим голосом, держался так благородно и мило, что хозяйка дома, в свою очередь, захотела поговорить с ним наедине. Беседуя, она нежно пожимала ему руку, глядела на него влажными блестящими очами, выдававшими ее чувства. Она пригласила его к ужину и оставила ночевать в замке. Каждое мгновение, каждое слово, каждый взгляд разжигали в ней страсть. Как только все удалились, она написала ему записку, не сомневаясь, что он придет разделить с ней ложе, в то время как милорд Ну-и-что-ж будет почивать у себя. Но Амазан и на этот раз нашел в себе силы устоять. Таково чудотворное действие крупицы безумия на сильную и глубоко оскорбленную душу.
Амазан, по своему обыкновению, послал даме почтительный ответ, в котором объяснял, как священна его клятва и неукоснителен долг научить царевну вавилонскую владеть своими страстями. Затем, приказав запрячь единорогов, он вернулся в Батавию, повергнув своих новых знакомцев в изумление, а хозяйку дома в отчаяние. От полного расстройства чувств она забыла спрятать письмо Амазана. На следующее утро милорд Ну-и-что-ж нашел и прочел его.
– Вот ерунда! – сказал он, пожав плечами, и отправился с несколькими пьяницами-соседями охотиться на лисиц.
Амазан между тем уже плыл по морю, снабженный географической картой, которую подарил ему ученый альбионец, беседовавший с ним у милорда Ну-и-что-ж. Он удивленно взирал на огромное земное пространство, уместившееся на маленьком клочке бумаги.
Его взгляд и воображение блуждали по этому маленькому листку. Он видел Рейн, Дунай, Тирольские Альпы, обозначенные в ту пору другими именами, видел все страны, которые ему надлежало проехать, чтобы достичь города на семи холмах. Но всего пристальнее рассматривал он страну гангаридов, Вавилон, где повстречал свою дорогую царевну, и роковую Бассору, где она поцеловала фараона. Он вздыхал, он лил слезы, но признавал, что альбионец, подаривший ему землю в столь уменьшенном виде, не ошибался, утверждая, что люди на берегах Темзы в тысячу раз образованней, чем на берегах Нила, Евфрата и Ганга.
Пока он возвращался в Батавию, оба судна царевны на всех парусах неслись к Альбиону. Корабль Амазана и корабль Формозанты встретились, почти столкнулись друг с другом. Влюбленные были совсем близко друг от друга, но даже не подозревали об этом. Ах, если бы они только знали! Но властный рок этого не допустил.