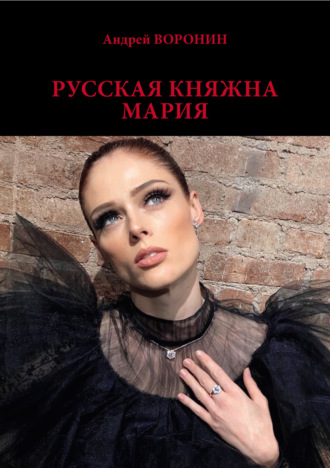
Андрей Воронин
Русская княжна Мария
© Оформление. Современный литератор, 2002
* * *
Глава 1
Утро в Смоленской губернии – это, господа, вещь просто расчудесная, особенно если утро это августовское. Случалось ли вам видеть, как встает солнце над полями в Смоленской губернии в августе месяце? Доводилось ли вам вдыхать этот воздух, чище и слаще которого, ей-богу, нет в целом свете? Видали ль вы этот туман, который жемчужной кисеей подымается из оврагов и лощин, чтобы укутать пуховой периною луга и перелески? Ежели не видали, то, право же, многое вы потеряли в своей жизни, и многое еще вам следует повидать на этом свете. Поезжайте в Смоленскую губернию и посмотрите, как золотится в утренних лучах луковка деревенского храма в селе Вязмитиново, где настоятелем уже двадцать пять годков служит тишайший отец Евлампий, любящий, чего греха таить, ублажить свое чрево цыплячьей ножкой и стаканчиком вишневой наливки. Грешен, грешен отец Евлампий, да и кто не грешен на этом свете?
Стоя по утрам на резном своем крылечке в одном заношенном подряснике, отец Евлампий частенько думал о том, что Сатана хитер истинно как змий. Разные обличья может принимать враг рода человеческого, чтобы смущать слабый людской разум. То подразнит куском ветчины в постный день, то девок на речку с бельем пошлет в тот самый миг, когда батюшка там прогуливается. Тоже, знаете ли, соблазн, да и матушка сердится. Опять, кричит, старый греховодник, за свое?! Глаза, кричит, твои бесстыжие, куда ты пялишься? Архиерею, кричит, пожалуюсь… А батюшка нешто виноват? Ох, ох, грехи наши тяжкие…
В последние дни, однако ж, отец Евлампий нечувствительно позабыл и про крепкие, цвета сливок, ноги деревенских девок и молодиц, что выглядывали из-под подоткнутых подолов, и про прискорбное свое чревоугодие перед ликом новой, доселе невиданной и неслыханной угрозы. Враг рода людского, приняв на сей раз обличье маленького человека с толстым бритым лицом и с жирными, обтянутыми белыми лосинами ляжками, скорым ходом надвигался на приход отца Евлампия. Два дня громыхало на западе, полыхало зарницами и заволакивало черными дымами небо в той стороне, где стоял град Смоленск, а вчера под вечер мимо села пошла армия – пыльная, закопченная, в кровавых бинтах, с обозами и лазаретами, с одинаковой угрюмостью на лицах.
Ночью отец Евлампий самолично, в кровь сбив неумелые свои руки, закопал на погосте церковное золото и драгоценные, шитые самоцветными каменьями ризы. Поутру он, как всегда, вышел на крыльцо и стал там, потирая ноющую с непривычки поясницу, но глядел при этом не на восход, где вот-вот должно было подняться над лесом солнце, а на запад, где небо темнело от дымов Смоленского пожара. Взгляд выцветших голубых глазок отца Евлампия то и дело с беспокойством обращался на дорогу: не пылит ли по ней наступающее войско? Но войско все не шло, и только под вечер, когда батюшка, махнув рукою на свои тревоги, уже успел переделать все дневные дела и даже принять стаканчик любимой своей наливки, из дымного закатного зарева выступила вдруг и пошла по деревенской улице конница.
Дрогнуло сердце у сидевшего подле окна с графинчиком в руке отца Евлампия при виде колышущихся киверов и блеска закатного солнца на остром железе, дрогнуло и сжалось болезненно в предчувствии беды. А тут еще и матушка подлила масла в огонь, сказавши:
– Дождались. Сказывала я тебе, батюшка, убегать надобно. Пропадать нам теперь, как есть пропадать…
И, осенив себя крестным знамением, поклонилась иконам.
– Дура ты, матушка, – степенно ответствовал отец Евлампий, также перекрестясь. – Куда ж это я от своего прихода побегу? Не пристало духовному лицу, рясу подобравши, от лягушатников бегать. Господь не допустит, а коли будет на то его воля, так за веру православную и смерть принять не грех.
Отец Евлампий хотел было добавить, что за такую мученическую погибель священный синод запросто может причислить его к лику святых, но сдержался, своевременно припомнив, что гордыня относится к числу смертных грехов и не пристала скромному приходскому священнику.
– И-эх! – махнув фартуком, скорбно промолвила матушка Пелагия Ильинична и хотела, видимо, что-то добавить, но тут звонарь вверенного попечительству отца Евлампия храма углядел, наконец, вступившего в деревню неприятеля и, по всему видать, спьяну, ударил в набат, словно где-то случился пожар или из леса выскочили на своих коротконогих лошаденках раскосые татары.
Тревожный гул поплыл над опустевшей деревней. Передний всадник на высоком гнедом жеребце недовольно покрутил головой, дернул себя за длинный русый ус и, поворотившись к своему ближайшему товарищу, сказал на чистом русском языке:
– Дурак народ! Ей-богу, дурак! Что он, очумел, что ли?
Товарищ его, щелчком взбив бакенбарды, из которых при этом вылетели два облачка пыли, в точности как из старой перины, отвечал ему с кривой усмешкой:
– За французов, видно, приняли. То-то будет ладно, коли они нас в рогатины возьмут!
Передний всадник совершенно по-лошадиному фыркнул в усы и, вынувши из кармана расшитый бисером кисет, принялся набивать носогрейку.
– В рогатины – это еще что, – сказал он, перекрикивая дребезжащий набатный колокол. – Сказывали, что Бонапарт по деревням подметные письма раскидывает, волю мужичкам сулит.
– Брешут, – уверенно отвечал его приятель, но руку при этом зачем-то опустил на рукоять сабли.
Деревня словно вымерла, и непонятно было, для кого гудит набат. По обе стороны дороги стояли весьма крепкие и зажиточные с виду дома, носившие на себе неизгладимые следы краткого присутствия отступавшей армии и торопливого исхода своих обитателей. Передний всадник недовольно повел усом сначала в одну сторону, потом в другую и принялся стучать огнивом, высекая огонь.
– Брешут или не брешут, – проворчал он сквозь стиснутые зубы, в которых зажата была носогрейка, – а твои, брат Званский, мечты о парном молоке и мягкой постели – пфуй!
С последним словом он выпустил из сложенных трубочкой губ струйку табачного дыма и помахал в воздухе грязной ладонью, показывая, как улетели по ветру мечты его товарища.
Набат вдруг стих едва ли не на половине удара – звонарь, как видно, признал, наконец, во всадниках соотечественников, а может быть, просто устал дергать веревку. Смуглый Званский поправил на голове кивер, нервно дернув его за козырек. В наступившей тишине стала слышна усталая поступь лошадей и позвякиванье сбруи.
– Слава те, господи, – сказал Званский, – замолчал. А то, не поверишь, все кажется, будто где-то пожар.
– Пожар там, – мрачно проговорил его усатый товарищ по фамилии Синцов, указывая большим пальцем через плечо – туда, где догорал оставленный ими в числе последних Смоленск.
Все, что осталось от N-ского гусарского полка – немногим более сорока всадников и десяток раненых на двух бричках, – являло собою жалкое зрелище. Блестящая гусарская форма, при виде которой замирали сердца уездных барышень, запылилась, изорвалась, местами была прожжена насквозь и покрылась бурыми пятнами засохшей крови. Там и тут в нестройной колонне мелькали грязные кровавые бинты. Усталые лошади лениво передвигали ноги, уныло мотая головами. И они, и сидевшие в седлах люди отчаянно нуждались в отдыхе. Временами кто-нибудь из раненых принимался слабым голосом просить воды. Между конскими крупами мелькали драные мундиры и белые наплечные ремни двух или трех прибившихся к отряду пехотинцев, которые отстали от своих частей. Ружья свои с примкну-тыми багинетами они держали на плечах, как держат возвращающиеся с полевых работ крестьяне какие-нибудь косы или грабли.
Поручик Синцов, возглавивший отступление того, что язык как-то не поворачивался назвать полком, развалясь в седле, угрюмо посасывал свою носогрейку. Был он худого рода, но славился в полку как первейший храбрец, игрок, дамский угодник, задира и бретер. В горячем деле равных ему сыскать было трудно. Был он вспыльчив, горяч и скор как на руку, так и на язык. За дуэль его разжаловали было в солдаты, но Синцов благодаря своей храбрости довольно скоро получил прежний чин и вернулся в полк, ничуть не изменившись за время своего отсутствия – все такой же дерзкий, бесстрашный и вечно в долгу, как в шелку. «Вот гусар, – говорили про него офицеры, – как есть гусар!» Командир полка, однако же, во время таких разговоров помалкивал, кусая черный с проседью ус и глядя в сторону, как будто имел на счет Синцова собственное, отличающееся от остальных, мнение.
Дернув за повод, Синцов поворотил коня и шагом подъехал к бричке, в которой лежал, закрыв глаза и запрокинув к небу бледное от потери крови лицо, до подбородка укрытый ментиком командир полка полковник Белов.
– Господин полковник, – позвал он, – Василий Андреевич! Деревня, господин полковник. Надо бы здесь на ночлег остановиться.
Полковник не отвечал – он был без сознания. Синцов, хмурясь и грызя, в подражание полковнику, длинный ус, огляделся по сторонам. Деревня выглядела вымершей: жители бежали все до единого, прихватив с собой все, что могли унести. Правда, кто-то бил же только что в набат! Да только много ли проку будет от деревенского дьячка полусотне голодных, измученных гусар и такому же количеству лошадей!
– Черти, – проворчал поручик, терзая ус, – попрятались, мерзавцы! А вот изловить этого звонаря и пороть до тех пор, пока не скажет, где его земляки вместе с провиантом прячутся!
Он уже начал вертеть головой, прикидывая, кого бы отправить на поиски звонаря, но тут к нему, отделившись от нестройной колонны всадников, подъехал молодой человек в запыленной и прожженной у плеча зеленой юнкерской куртке. Поверх пыльных шнуров на груди у него висел солдатский крест, ножны офицерской сабли с темляком звякали о стремя. Его загорелое лицо с легким черным пушком на том месте, где полагалось быть усам, носило то же выражение угрюмой озабоченности, что и у всех его товарищей, но у него это выражение несколько смягчалось юношеской округлостью черт.
– Деревня пуста, господин поручик, – сообщил он новость, которая для Синцова новостью не являлась.
– Сам вижу, – буркнул Синцов. Едва заметный польский акцент молодого человека заставил его поморщиться. Поручик не любил поляков и не желал понимать, какого дьявола поляк делает в русском гусарском полку. Для него этот недавно произведенный в корнеты и еще не успевший обмундироваться семнадцатилетний мальчишка был почти готовым перебежчиком и шпионом. Кроме того, он, по слухам, был чертовски богат, что делало его присутствие здесь, на Московской дороге, окончательно непонятным для Синцова. В самом деле, какого черта?! Сидел бы себе в своем имении, пил бургундское и любезничал с французскими офицерами, как остальные его соотечественники!
Впрочем, подолгу размышлять о подобных вещах поручик Синцов не привык. Мальчишка неплохо держался под огнем и всегда вовремя отдавал долги – чего же боле?! Если бы еще не этот его акцент, не эта его польская шляхетская фанаберия…
– С фуражом и провиантом здесь будет туго, – с видимым трудом пропустив мимо ушей грубость Синцова, продолжал корнет. – Крестьяне прячутся где-то в лесу, и…
– Вот что, корнет, – перебил его Синцов, хмурясь сильнее прежнего, – диспозиция мне ясна и без тебя. Ежели у тебя есть что сказать, говори, а коли нет, не обессудь. У меня и без пустой болтовни башка трещит.
Корнет закусил губу и несколько секунд молчал, комкая в кулаке поводья. Справившись с раздражением, он снова заговорил прежним ровным тоном.
– Я хотел лишь сообщить вам, – сказал он, сделав заметное ударение на слове «вам», – что неподалеку отсюда расположен дом князя Вязмитинова. Возможно, он покинут так же, как и деревня, но там нам будет удобнее во всех смыслах. Быть может, в кладовых дома остались кое-какие припасы, которые нам очень пригодятся. К тому же, дом стоит в стороне от большой дороги, что на время обезопасит нас от внезапного нападения неприятеля.
– Гм, – с глубокомысленным видом произнес поручик, мигом оценивший все выгоды сделанного корнетом предложения, – А далеко ли до дома?
– Версты четыре, – отвечал корнет, – никак не дальше. Место там уединенное, дом просторный…
– Да ты бывал здесь, что ли? – спросил Синцов, удивленный познаниями поляка в географии Смоленской губернии.
– Да, – отвечал корнет, – мне приходилось гостить у князя. Я был представлен ему в Петербурге и имел честь быть приглашенным в гости.
– Знатно! – насмешливо проговорил Синцов. – А уж нет ли у князя хорошенькой дочки?
Насмешка его была вызвана жгучей завистью: Синцов не мог даже мечтать быть принятым в круги, где свободно вращался этот полячишка, у которого всего-то и было, что громкое имя да огромное отцовское состояние.
– Полагаю, поручик, что это к делу не относится, – сухо ответил корнет и выпрямился в седле, как на параде.
– Ну, может, и не относится, – буркнул Синцов, с несвойственным ему благоразумием решив, что сейчас не самое подходящее время для ссоры. – Добро, корнет, веди к князю. А что, богатые у него погреба? Я бы сейчас рейнвейну – у-ух-х!..
Не дожидаясь ответа, он пришпорил гнедого и хриплым от усталости и забившей горло пыли голосом прокричал команду. Дойдя до околицы, отряд повернул в сторону княжеского дома и вскоре скрылся в лесу.
* * *
В то время, как отставший от арьергарда корпуса Дохтурова отряд гусар входил в лес, навстречу ему по лесной дороге двигался одинокий всадник на крупном вороном жеребце. Всадник был одет в форму ротмистра Орденского кирасирского полка и имел потрепанный, усталый вид человека, чудом уцелевшего в сражении и вдобавок отставшего от своей части. Его черная кираса была покрыта пылью и вмятинами, каска с высоким волосяным гребнем и медным налобником, на котором была вычеканена звезда ордена святого Георгия, сбилась на сторону, длинный палаш в поцарапанных ножнах глухо звякал о стремя, а карабин в чехле висел под рукой так, чтобы его в любой момент можно было без промедления пустить в дело. Коротко говоря, вид он имел довольно странный; и не столько странна была его усталая фигура, сколько направление, в котором двигался кирасир. Не то заблудившись, не то по какой-то иной причине, но ехал он прямиком навстречу наступающему неприятелю. К тому же, конь его, великолепный вороной жеребец, хоть и был до самых ноздрей покрыт вездесущей дорожной пылью, в отличие от своего седока не выказывал никаких признаков усталости. Поступь его была ровной и уверенной; он даже не вспотел, словно перед дорогой успел хорошенько отдохнуть и подкормиться.
Внезапно кирасир насторожился, натянул поводья и, еще больше сдвинув на сторону каску, стал чутко вслушиваться в лесной шум. Его рука в грязной белой перчатке с раструбом легла на рукоять торчавшего из-за пояса пистолета. Через некоторое время привлекший его внимание шум сделался более явственным, и в нем можно было различить стук лошадиных копыт, людские голоса и громыхание повозок. Это могли быть как русские, так и французы. Не желая, по всей видимости, без нужды испытывать судьбу, кирасир торопливо спешился и, взяв коня под уздцы, увлек его в гущу леса, откуда стал наблюдать за дорогой, держа наготове взведенный пистолет.
Вскоре из-за поворота лесной дороги показались первые всадники. На них были зеленые ментики и синие рейтузы N-ских гусар. Судя по их виду, они недавно вышли из арьергардного сражения и никак не могли догнать армию. Кирасир при виде соотечественников почему-то не проявил радости, напротив, он, сунув за пояс пистолет, обеими руками обхватил морду коня, чтобы тому не вздумалось ржанием выдать его местонахождение.
Передний гусар, русый усатый красавец с квадратным подбородком и наглыми, навыкате, светло-голубыми глазами, дымил короткой трубкой, пропуская дым через густые усы и невнимательно вслушиваясь в то, что говорил ему ехавший рядом юнец в юнкерской тужурке с солдатским крестом, но при этом с офицерской саблей на боку. Разглядев как следует этого юнца, засевший в кустах кирасир забыл об осторожности и, выпустив конский храп, снова потянулся за пистолетом.
– Каков случай! – чуть слышно прошептал он. – Нет, каков случай, черт возьми!
Конь его, словно только того и дожидался, захрапел и издал короткое пронзительное ржание, тряся головой и бренча кольцами уздечки. Пробормотав ругательство, ротмистр поспешно схватил коня под уздцы, но было поздно: его обнаружили. Четыре десятка сабель со свистом выпрыгнули из ножен, и не менее пятнадцати пистолетных стволов уставились в его сторону широкими черными зрачками. Защелкали взводимые курки, и усатый поручик, зажав в кулаке носогрейку, хрипло крикнул в лес:
– А ну, выходи, кто там! Выходи, не то велю стрелять!
Кирасир зло толкнул пистолет за пояс и в последний раз посмотрел на юношу в юнкерской тужурке. Тот, закаменев от напряжения лицом, целился в лесную чащу из пистолета, и кирасиру почудилось, будто дуло его смотрит прямо в георгиевскую звезду у него на лбу.
– Не везет, – пробормотал он. – Матка боска, до чего же не везет!
По-прежнему держа под уздцы коня и подняв кверху пустую правую ладонь, он вышел на дорогу под дула нацеленных на него пистолетов и ружей нескольких затесавшихся в гущу гусар пехотных солдат.
– Не стреляйте! – густым, не лишенным приятности баритоном воскликнул он. – Я свой! Ротмистр Орденского кирасирского полка Огинский!
– Ба! – крикнул, как выстрелил, поручик Синцов. – Кирасир! Нашего полку прибыло! Ну, теперь держись, Бонапарт! Как, как? Огинский?
Он с удивлением во взгляде обернулся на ехавшего рядом с ним корнета.
– Еще один Огинский? Что за черт? Родственник?
– Кузен, – отвечал корнет Огинский, также удивленно подняв брови.
Впрочем, удивление на его лице быстро уступило место выражению неподдельной радости от нежданной встречи с сородичем. Гремя саблей, он спешился и, бросив поводья на луку, шагнул навстречу кузену.
– Какими судьбами, брат? – спросил он, раскрывая объятия. – Глазам своим не верю! Откуда ты?
– Отстал от своих, как видишь, – отвечал кирасир с радостной улыбкой на лице – такой чрезмерно широкой, что она напоминала волчий оскал, и только такой молодой и неискушенный в дипломатии человек, как корнет, мог не видеть всей фальши, что была заключена в этой улыбке. – Ну и чертово же пекло было там, у моста! Я вижу, поручик, – продолжал он, обращаясь к Синцову, – что старший здесь вы. Не позволите ли присоединиться к вашему отряду?
– Не раньше, чем вы объясните, по какой причине отсиживались в лесу, – хмурясь и кусая ус, ответил Синцов, не любивший поляков и не помнивший, чтобы в бою у переправы участвовали кирасиры Орденского полка.
– Право же, – выпуская из объятий кузена и горделиво выпрямляясь, сказал кирасир, – ваш тон оставляет желать много лучшего. В чем, позвольте узнать, вы изволите меня подозревать? В лесу я скрывался потому, что не знал, кто вы. Ваши люди, поручик, тоже не очень похожи на регулярную армию…
– Они-то как раз и есть регулярная армия, – возразил Синцов и по примеру полковника Белова подкрутил левый ус. Про правый ус он позабыл, и тот остался висеть книзу, отчего физиономия гусара сделалась неуловимо похожей на морду драчливого кота. – Да и люди все наши, русские… А впрочем, виноват. Прошу простить. Устал, видите ли, как пес. Имею честь предложить вам место в нашем строю, коли вы еще не передумали.
– Благодарю, поручик, – сказал кирасир и легко забросил свое крупное тело в седло.
Поправив каску и разобрав поводья, он легонько тронул коня шпорами и занял место в колонне между Синцовым и своим кузеном.
– А ваш родственник, видите ли, вызвался нас проводить, – сказал Синцов кирасиру, когда колонна тронулась. – Этакий, знаете, Иван Сусанин шиворот навыворот: там русский мужик поляков в болоте потопил, а тут поляк русских гусар в лес тащит. Ну, шутка, шутка! – закричал он, заметив, как поджал губы молодой Огинский. – Корнет наш молодец хоть куда, это вам любой скажет. Шуток только не понимает. Что, корнет, далеко ли еще до имения?
– Близко, – коротко отвечал корнет и, дабы не испытывать более своего терпения, отстал от Синцова с кузеном, хотя его и подмывало поговорить с родственником поподробнее.
Ему было одиноко. По собственному желанию и вопреки воле отца он отказался от выхлопотанного для него места в гвардии, записавшись в армейский гусарский полк, в то время как многие, если не подавляющее большинство его соотечественников, радостно приветствовали Бонапарта. Наследник титула и огромного по любым меркам состояния, юный Огинский со всем пылом молодости стремился к ниспровержению тирана и узурпатора, каковым полагал Наполеона. Он считал, что его место в действующей армии, и был доволен полученным назначением – вернее, был бы доволен, если бы не ядовитые шутки Синцова. Честь польского шляхтича возмущалась от этих шуток, и много раз корнет Огинский удерживался от того, чтобы бросить поручику вызов. Причиной его сдержанности был не страх перед более сильным и опытным противником, как ошибочно полагал Синцов, но понимание того, что фронт – не самое лучшее место для дуэлей. Перед лицом неудержимо наступающего неприятеля глупые шутки и мелочные обиды представали совсем в ином свете, нежели в мирное время; кто бы ни одержал верх в поединке, смерть или ранение одного из дуэлянтов были бы на руку французам, и никому более.
Глядя по сторонам на заросшие густым лесом обочины знакомой дороги, корнет с трудом удерживал вздох. Ему представлялся брошенный, опустевший дом, в котором некогда он провел столько сладостных часов в обществе внучки старого князя, очаровательной Марии Андреевны. Словно наяву видел он пустой бальный зал с выбитыми стеклами, в котором сквозняк с шорохом гонял по паркету нанесенные сухие листья, и вспоминал, как вальсировал в этом зале с незабвенной Мари… Корнет был влюблен так, как бывают влюблены люди в семнадцать лет, когда им кажется, что их любовь будет длиться вечно и что такого чувства не испытывал до них никто в целом свете.
С грустью думал он о том, что старый князь Александр Николаевич благосклонно поглядывал в его сторону, когда он танцевал с Марией. Дело, казалось, верно шло к помолвке, но теперь между корнетом и помолвкой пролегла война – не скоротечная кампания, которая начинается и заканчивается в течение одного месяца, а настоящая война, полная тягот, крови и смертей. Даже дом, в котором жила его возлюбленная, должен был вот-вот достаться неприятелю на позор и разграбление.
Думая о том, что дом покинут, корнет испытывал одновременно и грусть, и радость. Он отдал бы полжизни за то, чтобы еще раз увидеться с княжной, но то, что она, без сомнения, покинула свое имение вместе с отцом и прислугой, не могло его не радовать. Галантность французов хороша в бальных залах; то, во что превратился взятый ими Смоленск, говорило само за себя. Юным барышням не место на войне. Да что там французы! Один Синцов чего стоит! Право, когда бы не война, не миновать бы ему дуэли с корнетом Огинским! Либо стреляться, либо рубиться на саблях, как это принято в Польше – но до конца, до смерти!
Пока корнет Огинский предавался своим невеселым размышлениям, в голове колонны между его кузеном и поручиком Синцовым происходил весьма любопытный разговор.
Ради удовольствия видеть новое лицо и говорить с ним поручик преодолел свою природную неприязнь к полякам и поначалу неохотно, а потом все более увлекаясь, поддержал навязанную ему кирасирским ротмистром беседу. Старший Огинский угостил Синцова табаком, который оказался много лучше того, которым гусар обыкновенно набивал свою носогрейку, а когда тот в очередной раз заявил, что был бы весьма не прочь выпить глоток рейнвейну, с улыбкой отстегнул от пояса флягу и повернул ее поручику. Синцов понюхал пробку и поворотил к попутчику лицо с удивленно вздернутыми бровями: во фляге был именно рейнвейн. После доброго глотка, а вернее сказать, после пяти добрых глотков, чувства поручика Синцова к незнакомому кирасиру значительно потеплели, и он незамедлительно перешел с ротмистром на «ты».
– А что, брат Огинский, – проговорил он, с удовольствием попыхивая трубкой и облизываясь после вина, как кот после сливок, – я гляжу, ты не слишком жалуешь своего родственника?
Огинский тонко улыбнулся, не подавая вида, что его покоробила фамильярность армейского гусара. Он окинул быстрым косым взглядом вольно раскинувшуюся в седле фигуру поручика, покосился через плечо назад и снова посмотрел на Синцова. Этот человек был ему в общих чертах ясен; понятно было, что его можно использовать в своих целях.
– Родственные отношения – штука сложная, – уклончиво отвечал он на хорошем, почти без акцента, русском языке. – Бывает так, что брат за брата жизнь готов отдать, а бывает… Бывает и иначе. Я вижу, поручик, что вы человек чести и не станете разглашать подробности нашего разговора. Антр ну, как говорят французы, между нами… Вы меня понимаете, надеюсь?
– Не дурак, – подтвердил Синцов и затянулся трубкой. – Сроду не болтал. Не люблю болтунов, шаркунов паркетных… Зубами бы рвал, в куски рубил бы!
Было видно, что, хоть он и привык держаться орлом, но выпитое на голодный желудок вино основательно ударило ему в голову. Окинув его еще одним внимательным взглядом из-под черных бровей, ротмистр Огинский решил, что момент настал. Все-таки судьба была на его стороне, давая ему шанс между делом достигнуть цели, даже не замарав при этом рук.
– Так вот, – на всякий случай понизив голос, продолжал он начатый разговор, – как вы верно заметили, большой любви между мною и моим кузеном нет. Говоря по совести, я дорого бы отдал за то, чтобы он пал под Смоленском от французской пули. А ежели бы кто подстрелил его на дуэли, да так, чтобы наверняка… не знаю даже. Я бы для такого человека чего угодно не пожалел.
Синцов покосился на него, грызя ус, и недобро усмехнулся.
– Девицу, что ли, не поделили? Нет, врешь, какие там девицы! Молчи, сам угадаю. Наследство?
Ротмистр только дернул плечом, давая понять, что вопрос Синцова неуместен. Нимало не смущенный этим жестом поручик коротко хохотнул и снова принялся грызть ус, который у него уже сделался заметно короче другого.
– Точно, наследство, – сказал он. – И что вы за народ такой – поляки? Не пойму я вас. А впрочем, в чужой монастырь со своим уставом… Ладно, пустое. Ну, а так, любопытства ради: сколько бы ты за такое дело не пожалел?
Ротмистр снова улыбнулся тонкой, хищной улыбкой, блеснувшей на его закопченном лице, как лезвие сабли.
– Что ж говорить, когда пустое, – тоном притворного равнодушия промолвил он. – Ну, скажем, тысячу бы дал, не думая. Золотом, – добавил он, рассеянно глядя в сторону.
– Тысяча – это, не спорю, деньги, – выбивая трубку о ладонь и пуская по ветру пепел, задумчиво сказал Синцов. – А только я бы на такое черное дело меньше, чем за пять тысяч, не пошел бы. Да что рядиться, когда это все так, только для разговора!
– Для разговора, верно, – без нужды оправляя портупею, сказал Огинский. – Однако, пять тысяч – это, сами посудите, ни с чем не соразмерно. Полторы – это еще куда ни шло, да и то… У меня ведь при себе только тысяча и есть.
Гусар подобрался в седле и пошарил глазами по фигуре кирасира, словно стараясь нащупать кошелек. Финансовое положение поручика Синцова можно было, не кривя душой, назвать отчаянным: он задолжал товарищам по полку не менее трех тысяч золотом, а денег взять было неоткуда. Многие из его кредиторов полегли под Смоленском, отбивая кавалерию Мюрата от моста через Днепр, но у них остались родные, да и среди тех, кто ехал сейчас следом за ним по этой лесной дороге, можно было с трудом насчитать пять человек, которым поручик не задолжал хотя бы небольшую сумму. Поэтому сделанное прямо в лоб предложение кирасира, хоть и было, как понимал Синцов, совершенно бесчестным и даже подлым, могло в случае успеха решить все его проблемы. А уж в успехе-то поручик не сомневался ни минуты: из пистолета он попадал в пикового туза с тридцати шагов, а на саблях мог побить любого.
– В таком деле, – лениво, словно через силу, проговорил Синцов, – и в долг поверить можно. Под расписочку, конечно. Что такое полторы тысячи, когда речь идет о наследстве? Тьфу, и растереть! Меньше, чем за четыре, охотника не сыскать.
– Ну, ну, поручик, – с усмешкой сказал Огинский, – остыньте. Мы ведь не в Париже! Здесь, в России, людей режут за копейку. Две, – добавил он, подумав. – Одна вперед, одна в долг. И никаких расписок. Мы же с вами дворяне, какие могут быть между нами расписки, да еще в таком деле!
– А! – вполголоса воскликнул Синцов с весьма довольным видом. – Так ты это серьезно!
– Помилуйте, поручик, как можно! Не вы ли давеча обвиняли моего кузена в том, что он шуток не понимает? А теперь сами туда же…
– Экий ты, брат, шутник, – после тяжелой паузы сказал Синцов неприятным голосом. – Только не худо бы тебе меру в своих шутках знать, а то я ведь могу того… бесплатно кого-нибудь продырявить.
– Полно, полно, поручик, – примирительно сказал ротмистр. – Что же вы, право, как порох… В серьезном деле горячиться не след, не то как раз останешься и без денег, и без головы. А деньги… Говорю же вам, что с собой у меня всего одна тысяча. Расписки – чепуха, ведь война кругом. А вдруг которого из нас завтра убьют? Что вам тогда в моей расписке? А коли живы останемся – сочтемся как-нибудь. Получу наследство – отсыплю все пять, как вы просили, и от себя еще добавлю. Дядюшка мой, признаться вам по чести, дышит на ладан, так что…
Он нарочно не договорил, предоставив Синцову возможность самостоятельно сообразить, что синица в руках лучше журавля в небе. Поручик поразмыслил, снова попросил у ротмистра флягу, хлебнул вина, утер губы и сказал:
– Неловко, черт… Да только мальчишка давно волком смотрит, и я его, признаться, не люблю. И потом, ведь ты, ротмистр, все одно его со свету сживешь – не мытьем, так катаньем. А, пропади оно все пропадом! Согласен. Только деньги вперед.
– Нынче же вечером, – пообещал ротмистр. – Только без шуток, поручик.
– Да уж какие тут шутки, – криво ухмыльнулся в усы Синцов. – Так, для разговору только…
Десятью минутами позже, когда все было окончательно решено, лес расступился, и всадники выехали на косогор, с которого открывался вид на имение старого князя Вязмитинова. Они пустили коней в галоп, и кони, почуяв близость жилья, с охотой понесли их под гору навстречу ночлегу.







