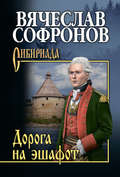Вячеслав Софронов
Кучум
– А почему у Мухамед-Кула в несколько раз больше улус, нежели ты выделил мне?
– Погляди на братьев, – Кучум старался не терять спокойствия, хотя слова старшего сына его обижали, – вот Ишим, вот Алтанай, вот Абдур-Хаим, Асманак, Мамыш и Яныш, – повел рукой в сторону двух близнецов, что были всегда неразлучны, – скоро придет время и им выделять свои собственные улусы. Если я все отдам тебе, то что останется им?
– Я не прошу всего. Почему ты не хочешь отдать мне Чимги-Туру, коль говоришь, будто это захудалый городок и самый опасный?
– Потому и не хочу! – вспылил Кучум. – У меня другие планы, и не пришло пока время говорить о них. Все! – и он торопливо вышел наружу, боясь не справиться с накипающим гневом внутри.
«Нет, определенно, – думал он, вышагивая вдоль обрыва и всматриваясь в дальний иртышский берег, – кто-то подговорил Алея просить именно Чимги-Туру, а не другой городок. Кто научил его? Зачем они хотят поссорить отца с сыном? Зачем?»
Впрочем, он понимал, откуда дует ветер. Шербети-шейх во время своего последнего приезда недвусмысленно намекнул, что в Бухаре и Ургенче недовольны тем, как медленно идет обращение сибирцев в праведную веру. Если кто-то из его князей, беков и строил у себя мечеть, то по году не казал глаз в нее, оправдываясь то болезнью, как хитрющий Соуз-хан, то занятостью военными делами. Знал он об этом, знал, но ничего не мог поделать. Притупилась его воля, направленная на переустройство сибирской земли. За долгие годы, проведенные здесь, чего он добился? Подчинения? Да, если против одного сибирца было двое наемников из его сотен. Понимания? Да, если дело касалось снижения ясака. Взаимности? Да, если он отпускал князей из Кашлыка в их улусы, где те пропадали по году и больше, избегали участия в походах, не подвергали свою драгоценную жизнь смертельной опасности быть убитыми в бою. Симпатии? Да, если отпускал аманата-заложника под небольшой выкуп в свое селение, после чего тот пропадал, уезжал, скрывался. Боялись ли они его? Тут он мог ответить себе однозначно – да. Ему не раз передавали слухи, будто бы обладал он сверхъестественной силой, умением обращаться в зверя, насылать порчу и лишать людей воли. Они будут бояться его до тех пор, пока не явится кто-то другой, более сильный. Так малый зверь боится большого, но дряхлый, обессиленный волк не страшен никому. Нет, он не даст усомниться в своей силе. Пусть не ждут, не надеются.
На свадьбе сына Кучум сидел мрачный, не отвечая на хвалебные речи, которые больше произносились в его честь, нежели в честь жениха. Невеселым оставался и Алей, памятуя отказ отца насчет Чимги-Туры. Если бы он знал, что Кучум метит его на место Мухамед-Кула, сделать главным башлыком, бессменным во всех походах! Если бы он мог посвятить старшего сына в свои планы, в которых и сам-то себе боялся признаться! Уже этой осенью он хотел направить Алея в набег с большим войском на русские городки за Уралом. Пришла пора проведать их силу, узнать, могут ли они выдержать длительную осаду, каковы их силы, оружие, сколько воинов стоит на стенах. Но пока рано сыну знать об этом. Пусть повеселится, погуляет на свадьбе, а потом… потом он посвятит его в свои планы.
Кучума удивило отсутствие на свадьбе Мухамед-Кула. Верно, обиделся на неприезд Кучума на его свадьбу, что играли прошлым летом, и теперь решил ответить тем же. Ладно, поймет еще, что нельзя кусать руку, кормящую тебя. Поймет… Только поздно бы не было.
Веселил всех Халик-коротышка, смешно прыгая меж сидящих гостей, наставляя им незаметно рога, выхватывая лучшие куски, выливая за шиворот вино, дергая за бороды. Старики не обижались, а молодые парни пугали коротышку длинными ножами. Осмелился Халик скорчить рожу и Кучуму, вскрикнув при этом:
– Наш хан сегодня хмурый сидит, верно, жалко сыну хорошую девку отдавать. Ничего, не жалей, себе еще найдешь. Вон их сколько у тебя. Подарил бы хоть мне одну. Подаришь?
– Пошел вон, дурак, – пнул его под зад Кучум. Тот упал прямо головой в котел с пловом, заверещал от боли.
Когда уж под утро Кучум слегка навеселе возвращался в свой шатер, возле уха просвистел кинжал и воткнулся в землю чуть впереди него.
Блаженство алчущих
Братья Яков и Григорий Аникитичи Строгановы, старшие в роду после смерти отца, возвернувшись из Москвы, решили собрать всех родственников у себя в городке. Требовали того новости, привезенные ими из стольного города. Собственно, и собираться нужно было им двоим да младшему брату Семену, да сыну старшего Якова – Максиму, которому шел двадцатый год, но ходил он еще под отцом и дела своего не завел.
Послали человека за Семеном – и к вечеру второго дня тот уже входил в горницу улыбчивый и просветленный радостью встречи. Все три брата, воспринявшие после смерти Аникиты Федоровича огромное и неспокойное хозяйство, выбрали каждый себе по городку и жили в дружбе: вели совместно торговлю, совместно же оборонялись от наскакивающих едва не каждый год вогульцев. Правда, последние два года набегов не бывало, но караульщики все так же исправно день в день несли службу на дозорных вышках, держали наготове пороховое зелье, чинили сгнившие острожные стены, зная: не успокоятся их соседи и непременно нагрянут в урочный час попытать свое разбойное счастье.
Семен Аникитич троекратно перекрестился на образа и лишь после обнялся с братьями, внимательно оглядел каждого, пошел к племяннику Максиму, у которого уже пробивалась рыжеватая бородка и легкий некогда пушок под носом начинал походить на настоящие усы.
– О, каков, – шутливо хлопнув его по плечу, притянул к себе, но, почувствовав сопротивление, отпустил, – да у тебя и силищи поприбавилось… Гляди-ка…
– Силы много, да ума чуть, – поддразнил наследника Яков Аникитич.
– Не скажи, не скажи, – не выпуская руку племянника из своей, Семен продолжал рассматривать того, словно увидел, открыл в нем что-то новое. Хотя между дядей и племянником существовала разница всего в десять лет, но Семен был давно уже хозяином сам себе, а Максим жил под зорким отцовским оком, и прежде чем сделать что-то, должен был испросить разрешения у отца, человека нрава крутого, не терпящего ни в чем не то что возражений, а даже косой взгляд домашних мог привести его в бешенство. Характером он пошел в отца, да и другие братья были своенравны и упрямы. Единственный человек, кого побаивался Яков Аникитич, была его супруга Евфимия из дворянского рода Охлопковых, что просватал ему отец через своего стародавнего друга Алексея Басманова. Ходила она по дому всегда в черном платке, не снимая его после гибели своего первенца, и была главной советчицей и управительницей по дому, не раз предостерегала Якова от шагов необдуманных, оберегала детей от отцовского гнева. Не могла только простить себе, что недоглядела за бойкой дочерью Аннушкой, которую совратил иуда-приказчик. Тот-то сбежал ночью тайком, а дочь прознавший про грех Яков Аникитич всенародно, при людях дворовых, осрамил, оттаскал за волосы и выгнал за ворота. Сгинула девка с тех пор и неведомо куда делась. Может, медведь задавил, может, сибирцы в полон угнали. Ходила Евфимия, не убоясь принять греха на душу, к бабке-ворожее. Наворожила-нагадала та, будто бы жива доченька и, Бог даст, свидятся когда. Да что утешения в том, коль не может обнять доченьку, с внучатамb понянчиться.
Видать, и Яков Аникитич казнил себя, мучился за горячность, и хоть вида не показывал, а седина в бороде сама за себя говорила, руки ходуном ходить начали, как у старика древнего. Вот и поди пойми их, Строгановых: то добры, ласковы, словно ангелы небесные, то хуже зверя дикого. Такой, видно, нрав, наследие от предков получили, вынесли.
Сказывал отец еще, будто бы вышел род их из ханов Золотой Орды, перешедших к князьям московским на службу. И будто бы татары, поймавши перебежчика того, с живого кожу с мясом ножичками до костей сняли, сострогали. За что и зовутся с тех самых пор Строгановыми… Так ли, нет ли, но служили князьям московским справно, заслуги многие имели, за что и вотчины в Пермской необжитой земле получили, от сборов-податей освобождены царем были.
Григорий Аникитич на год брата помладше, но такой же кряжистый, ухватистый и на расправу скорый. Дети у него, правда, все слабыми рождались и через год-другой помирали от болезни непонятной, а прошлым летом и жену Ирину в землю опустил, угасшую раньше времени. Остался при нем единственный сын Никита, которому двенадцать годиков минуло, но уже помощник в отцовских делах, по варницам вместе разъезжают. Будет на кого хозяйство оставить, земли наследные переписать. Вот и сегодня при отце Никитушка тут же в сторонке стоит, на дядю Семена поглядывает, ждет, когда его черед поздороваться придет.
– А моего и замечать не хочешь, – наконец не выдержал Григорий Аникитич и указал Семену на сына, что исподлобья поглядывал на взрослых, испытывая неловкость от своего малолетства.
– Ой, прости, племянничек, – воскликнул тот, – как же я мог не заметить такого мужика?! Да я тебе даже и подарочек припас. Где это он у меня, – засунул руку в суму, что постоянно возил с собой. Братья шутили даже: мол, не золото ли он там таскает и сроду не расстается с драгоценной заношенной, затертой до дыр сумой, что впору калике-страннику иметь. Семен отшучивался, не разубеждал братьев, но ни разу не показал содержимого заветной котомки. Порывшись, извлек разноцветного петушка-свистульку и, приложившись, дунул пару раз, извлекая тонкий переливчатый свист. – Вот мастеровой у меня один наладился делать. Взял у него, думаю, свезу племяшу, порадую, – и протянул петушка Никите.
– Не стану я свистеть в него, – отпихнул тот дядькину руку, заговорив ломким юношеским баском.
– Это отчего же? – удивился Семен Аникитич. – Не угодил, выходит? Не по нраву петушок пришелся?
– Чего я… малец какой, что ли, – набычился Никита. – Пущай свистит, кто желает, а я не буду.
Семен Аникитич озадаченно поскреб в затылке, подбросил свистульку вверх, поймал, поставил на стол.
– Ладно, – сказал миролюбиво и без обиды, – вырос, значит, коль от игрушек отказываешься. Кому другому подарю…
Своих детей у него не было. Да не только детей, но и женой все не мог обзавестись за хлопотами, пребывая в вечных разъездах, ночуя то на варнице, то в мужичьей избе. Правда, поговаривали, что девок при дворе своем держал Семен круглых да гладких, одна к одной. С ними и в баню хаживал, и гулянки закатывал. Но братья старшие не лезли с расспросами: мол, у него своя жизнь, ему и решать, как на том свете ответ держать станет, а тут и своих забот хватает. Семен, в отличие от старших братьев, кряжистых и малорослых, похожих один на другого, как грибы-боровички, был на голову выше их, голубоглаз, тонок в поясе, быстр в движениях и привык сызмальства все решать по-своему, не споря, но и не уступая. И если Яков с Григорием обустраивались в своих землях всерьез, надолго, то Семен набирал ватажников на варницы лишь на лето, а по первым холодам расплачивался с ними, распускал и забирался в лесную глухомань с верным слугой, где охотничал, промышлял зверя, выбираясь к жилью лишь по талому снегу.
Отец, перед уходом в монастырь, оставил все на старшего Якова, а тот указал братьям на варницы, прикинув, чтоб было по-честному, предложил вести хозяйство совместно, но рабочих и дворовых людей поделить поровну. Григорий согласился, а Семен, отмолчавшись, как обычно, уехал к себе, где и раньше проживал, и теперь наезжал лишь по приглашению братьев, когда случалось решать дела, требующие присутствия всех Строгановых.
– Сперва угощения отведаем, что хозяйка моя сготовила, или о делах поговорим? – спросил на правах хозяина дома Яков Аникитич. Все переглянулись, пожав плечами, предоставив хозяину решать по своему усмотрению порядок встречи, и он, поскребывая косматую бороду, мигнул появившейся в дверях Евфимии Федоровне, указал гостям на лавки вдоль стен.
– Тогда потолкуем без посторонних ушей, а потом уж и откушаем, коль хозяйка на стол подаст.
– Давай поговорим, потолкуем, – Григорий Аникитич первым, чуть прихрамывая, заковылял к лавке, сделав знак Никите, чтоб садился с краю от взрослых, – пущай и мой посидит, послушает, о чем взрослые речь ведут. Глядишь, на пользу пойдет…
– Пущай посидит, коль скучно не станет, – повел кустистыми бровями Яков Аникитич, – а скучно быть не должно. Интересные новости с Москвы привезли, – он занял свое место в центре под образами, Григорий Аникитич сел от него по правую руку, Семен умостился на краешке лавки напротив, а Максим и Никита сели чуть в сторонке, ерзая на узкой скамье.
– Ты грамоту царскую достань, достань, – засуетился Григорий Аникитич, бросая взгляды на небольшой ларец, стоявший на лавке подле старшего брата.
– Придет время, достану, – обрезал тот, – хочу сперва о делах московских всем рассказать. А дела там такие, что не приведи Господь. Казни чуть не каждый божий день. Прогневался царь Иван Васильевич на бояр своих и лютует крепко…
Семен открыто зевнул, не спеша перекрестил рот, давая понять, что ему нет дела до тех казней, своих забот по горло.
– Ты пожди, Семка, зевать, пожди. Назеваешься еще, как обо всем услышишь, – налился моментально гневом Яков Аникитич, но, кашлянув в кулак, справился с собой и продолжал уже спокойнее, – а дело наше худое…
– Чего, и нас казнить приказал? – насмешливо спросил Семен. – Так чего он вас обратно отпустил? Может, сюда палачей пришлет? Так они нас не скоро сыщут. Леса кругом темные, непроходимые.
– Тьфу на тебя, паршивца, – не сдержался Яков Аникитич, – ты дашь слово сказать? Хватит юродствовать! Дело наше тем худо, что отец наш освобождение от податей выхлопотал когда еще, а теперь срок выходит. Скоро по полной мере платить начнем. Пробовали мы с Григорием лазейку к царю найти, чтоб новую отсрочку выхлопотать, срок продлить, да не вышло. Так что думать надо, как быть…
– Как быть, как быть, – передразнил его Семен, – платить надо. Вот как быть. Ты у нас старший, вот и думай. Голова-то эвон какая.
– Я уж давно все продумал, в уме прикинул и в Москве нашел нужного человека, пока ты здесь по лесам гоняешь, за девками ухлестываешь…
– А тебе кто мешает, – вполголоса проговорил Семен, но брат не расслышал его и продолжал, самодовольно оттопырив нижнюю губу.
– Вызнали мы, что при царе первый его советчик ныне Годунов Борис Федорович. Как царь всех бояр и ближних людей порешил, то он, почитай, один и остался. Батюшку нашего покойного, царство ему небесное, он, говорят, неплохо знал. Вот и шепнули мне, мол, встреться, перетолкуй с Борисом Годуновым. Он все с полуслова понимает, через него и к царю попасть можно. Ну, встретились мы, перетолковали… Твердо он мне ничего не пообещал, но одно сказал: мол, царю доложит, какие мы от разбойных набегов людишек сибирских убытки несем, как нынче соль добывать нелегко стало, головой рискуючи каждый день. Обо всем и порассказал ему, как есть. – Яков Аникитич остановился, перевел дух, придвинул к себе ковш с квасом, сделал несколько больших глотков, утер бороду рукавом и, отдышавшись, продолжал. – Написал я грамотку, чтоб он ее царю передал при случае. Через неделю от него человек приходит. Просит к себе пожаловать Борис Федорович…
– Мы и поехали, – наконец вставил свое слово Григорий Аникитич, до того томившийся от своей задвинутости рядом со старшим братом.
– И поехали, – повысил голос Строганов-старший. – Приезжаем, а хоромы у него… Не хуже царских…
Семен опять зевнул, глянул на племянников, которые, в отличие от него, слушали, открыв рты, и поглядел в потолок. Ему были скучны напыщенные речи старшего брата, старавшегося показать значимость и старшинство над остальными. Начал разглядывать старинные образа, привезенные еще отцом и потемневшие от времени. Слова Якова долетали издалека, утрачивая смысл и значение…
…Царь повелел… Мы просили кланяться… Отблагодарил боярина… Строить крепости… Соль дорожает… Ливония…
Наконец Строганов-старший, который и речь держал больше для Семена, придвинул к себе ларец и вынул из него длинный свиток с темно-красной печатью величиной с ладонь, развернул его на столе, ткнул пальцем, зачитал вслух нужное место, из чего выходило, что царь дарует им земли и по Иртышу, и по Туре, и по Оби, чтоб они строили там городки, собирали ясак с татар и вогульцев и везли прямехонько к нему в казну.
«Вот пусть сам и строит, и ясак собирает, – зло подумал Семен, – чужими руками жар загребать всяк горазд. А как те городки построить да потом в руках удержать, то он не сказывает. Дарует! Да как туда сунешься, когда за каждым деревом по татарину с саблей?»
– Что скажешь, Семен? – вывел его из задумчивости голос старшего брата.
– А то и скажу, что хан Кучумка нас и здесь теснит, а потащимся на Иртыш, на Туру – можно панихиду хоть завтра заказывать. У него там войско сидит, а у нас что?
– Да… Просто так к Кучумке тому не сунешься. Он всех князьков к рукам прибрал, все под ним ходят, – закивал головой Григорий Аникитич, – мы вон с Яковом опробовали в захудалом местечке, что Тахчеи зовут по-ихнему, варницы поставить, так мужики наши едва ноги унесли.
– Так то Тахчеи, – постучал пальцем по столу Семен, – а попробуй дальше пойти. Чего и говорю.
– Все мы, Семушка, и без того понимаем, – помягчал вдруг Яков Аникитич, – не о том речь, чтоб на рожон лезть, голову под саблю Кучумову подставлять. Мы тебя и позвали, чтоб решить, где народ набрать воинский.
– Рать, что ли, собираетесь снаряжать?
– Думаем, у ногайцев сотен несколько испросить, чтоб повоевали Кучума, потеснили малость. Недорого и станет.
– Сколько? – напрямую спросил Семен, до которого наконец дошло, зачем братья пригласили его на разговор.
– Кто знает, сколько ихний хан запросит. Посылать гонцов будем. Так даешь свое согласие, али как?
– Он согласится… Дело наше общее, – попытался подбодрить младшего брата Григорий Аникитич.
– Не-е-е… С ногаями связываться не стану. Они и деньги возьмут, и сами сбегут.
– Чего ж предложишь тогда? – мигом посуровел и насупил брови Яков Аникитич, а вслед за ним подобрался и средний Строганов, как бы с осуждением поглядывая на несговорчивого младшего. – У царя войско просить? Не даст. Думали о том. Там войне с немцами, шведами, ляхами и конца-краю не видать. Черемисы на Волге голову подняли, русских мужиков с деревень выгоняют, избы жгут. Опять же с Кучумом снюхались. Болтают, будто бы он к ним своих ратных людей послал, чтоб на Москву поднять. От царя помощи ждать не приходится. А вот не сегодня-завтра вогульцы попрут, а если еще и татары с ними сговорятся, то… – и он широко перекрестился, – несдобровать нам одним с мужиками нашенскими.
– С ногаями дела иметь не буду, – упрямо отвечал Семен, – свет на них клином не сошелся. Копье, саблю не только они в руках держать умеют. Есть и получше.
– Это ты о ком? – враз спросили старшие братья.
– О ком, о ком, да о казаках! На Волге, на Дону вон сколько их обитается. Они и ногаев воюют, и с татарами поговорить смогут. Те их уважают…
– Да ты думаешь, что говоришь? – теперь Григорий не на шутку разгорячился. – То ж первые воры и разбойники. Супостаты! Ногайцы, те хоть деньги возьмут, а в городок не полезут. У них хан есть, его послушают. С ханом же мы завсегда договоримся. А с казака что взять? Он и деньги возьмет, и последние портки с тебя сымет…
– С тебя сымешь, – огрызнулся Семен.
– А дядя Семен верно говорит, – неожиданно подал голос Максим, смирно сидевший до этого и внимательно прислушивающийся к разговору, – мне и купцы сказывали, и несколько дозорных у нас службу несут из казаков. Они попало кого не грабят, чтоб без разбору. У них с басурманами свои счеты…
– Тебя кто спросил? – Григория Аникитича будто кулаком в бок вдарили. – Советничек выискался! Молоко на губах не обсохло, а туда же! Пошел вон отсюда! Против отца голос подал! Покудова я живой – не бывать казакам у нас в городках, – брызгая слюной, прокричал вслед Максиму, который, не смея ослушаться, встал с лавки и понуро пошел к двери.
– Чего завелся? – фыркнул Семен. – Думаешь, не знаю, как твой обоз казаки пограбили? Вот ты с тех пор на них зло и держишь.
– А коль знаешь, то прикуси язык, прикуси, – Григорий Аникитич неожиданно побледнел и схватился за грудь, но потом справился с неожиданно накатившей болью и выпрямился.
– Вот и поговорили, – Семен встал, шагнул к двери, – поеду я, однако, а то темнеет рано. Надобно бы засветло добраться.
– Так чего решим? – привстал Яков Аникитич, и Семен, поглядев на него сверху вниз, отметил, как сдал тот за последний год, стал совсем седым, нездоровая желтизна выступила на лице.
«Лучше бы о себе подумал, а он все гребет да хапает… На тот свет с собой добро не потащишь…» Но вслух ответил:
– А ничего не решим. Вы за ногаев – нанимайте. А я согласия не даю. Прощевайте покудова, – и прошел мимо стоявшей в дверях Евфимии Федоровны, опустившей глаза вниз, поклонился ей и заспешил во двор, громыхая каблуками по высоким ступеням.
Возле крыльца стоял хмурый Максим. Остановился возле него, шмякнул ладошкой по плечу, подмигнул:
– Не боись, мы свое слово еще скажем. Поглядим, чья возьмет.
– К тебе на заимку хочу, – тихо проговорил тот, – скучно мне здесь, со стариками.
– Приезжай, – просто ответил тот и вскочил на коня. – Буду ждать, – прокричал, обернувшись на скаку.