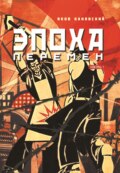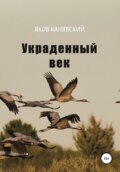Яков Канявский
Трагический эксперимент. Книга 6.
Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются её плодами отпетые негодяи.
Томас Карлейль
Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну.
Михаил Жванецкий
Народ, забывший своё прошлое, утратил своё будущее.
Сэр Уинстон Черчилль
© Канявский Яков, 2025
© Издательство «Четыре», 2025
Судьба победителей
Главный урок всех революций в том, что цель не оправдывает средств, что дурные средства пожирают любую цель и губят её рыцарей.
Философ Григорий Померанц
Мало кто из авторов эксперимента и их соратников дожил до того момента, когда можно было увидеть реальное воплощение своей идеи в жизнь.
Кто-то погиб в период Гражданской войны, кто-то умер от болезней, а кому-то помогли уйти из жизни конкуренты.
Дело в том, что идея идеей, а борьба за власть шла постоянно, кому-то всё время хотелось быть ближе к её вершине. Управлять страной бывшим простолюдинам было заманчиво.
Василий Иванович Чапаев родился в 1887 году в Чебоксарском уезде в семье крестьян. Летом 1917 года он вступил в партию большевиков, через некоторое время его назначили командиром запасного полка. После Октябрьской революции стал организатором отрядов Красной гвардии в одном из уездов, командиром полка, дивизии РККА. Воевал с белогвардейцами – уральскими казаками и чешскими легионерами.
В 1919 году Чапаева назначили начальником 25‐й стрелковой дивизии. В её рядах он отличился при взятии Уфы.
Погиб Василий Иванович 5 сентября того же 1919 года после диверсии уральских казаков. Произошло это в городе Лбищенске (ныне – Чапаев). На тот момент в этом населённом пункте располагался штаб 25‐й стрелковой дивизии. Сейчас это село в Западноказахстанской области Казахстана, районный центр Акжаикского района. Находится в 130 км к югу от Уральска, на правом берегу реки Урал.
О том, как это было, единственно точной версии не сохранилось. Есть несколько историй и несколько легенд.
В сентябре 1919 года командиры Уральской армии белых решили от лобовых атак на наступающие красные части перейти на рейдовые захваты. Таким образом они хотели напасть на штаб красных, находящийся в тылу, в Лбищенске. Для этого они организовали сводный отряд дивизии, которую возглавлял полковник Сладков, и дивизии генерала Бородина. Во главе был последний – генерал Бородин. Численность диверсионной группы составляла (по разным оценкам) от 1200 до 2000 человек. При этом под командованием Чапаева находилось намного меньше людей.
В ночь на 5 сентября дивизия Бородина начала наступление на город с запада и севера, а дивизия Сладкова – с юга. При этом многие казаки были местными и отлично знали Лбищенск. Атака была успешной. Всего погибли порядка 1,5 тысячи человек, а 800 красноармейцев попали в плен.
И вот тут разрушается миф о том, что убийцей Чапаева был Сладков. Участники этого рейда в дальнейшем вспоминали, что Бородин выделил специальный отряд, целью которого был арест Чапаева. Возглавлял его подхорунжий Белоножкин. Он вместе с казаками напал на дом, где квартировался Чапаев, но нападавшие упустили его. Белоножкину удалось лишь ранить красного командира в руку, после чего Василий Иванович смог сбежать через окно.
После этого Чапаев организовал сопротивление, в котором участвовали порядка 100 красноармейцев. А вот дальше – только легенды.
По одной из версий, во время боя Чапаева ранили в живот. Красноармейцы соорудили плот и переправили командира на другой берег Урала, однако он скончался от потери крови. Соратники похоронили Василия Ивановича, но так как русло реки несколько раз менялось, в дальнейшем могилу найти не смогли.
По второй версии, которая для многих и является хрестоматийной благодаря книге Дмитрия Фурманова «Чапаев» и одноимённому фильму братьев Васильевых, Чапаев утонул, когда сам переплывал Урал. В её пользу говорит и то, что тело Чапаева так и не нашли. Считается, что Василия Ивановича настигла ещё одна вражеская пуля, после чего он ушёл на дно реки.
Есть также версии, что после смерти Чапаева привезли в Уральск, где тайно похоронили, что его расстреляли после того, как взяли в плен, и другие. Но ни одна из них так и не получила подтверждения.
А вот особую известность и популярность Василий Иванович снискал уже после своей смерти. В 1923 году Дмитрий Фурманов, лично с ним знакомый, служивший комиссаром его дивизии, опубликовал роман «Чапаев». В 1934 году братья Васильевы выпустили одноимённый фильм. Это привело к всенародной любви и славе. Да такой, что его имя присвоили многим населённым пунктам, улицам, кораблям и т. д. Он и сейчас продолжает оставаться одним из народных героев тех лет и, пожалуй, самым известным красным командиром.
В СССР Чапаев стал одним из самых любимых героев анекдотов. Про первого советского маршала столько историй не сочиняли. По воспоминаниям современников, Будённый завидовал популярности Чапаева в народе, которую комдив приобрёл ещё при жизни. Кто был образованнее? Судя по мемуарам самого маршала, в школу он не ходил: в семье не было средств на обучение. Грамоте Будённого научил сын приказчика, когда будущий герой Гражданской войны работал помощником кузнеца. Кроме неполного года учёбы в петербургской офицерской школе, по окончании которой Семёну Будённому присвоили звание младшего унтер-офицера, другого образования у сына батрака не было. Знаменитые слова Будённого о том, что он советовал «дураку Чапаеву» учиться, стали известными благодаря артисту Михаилу Державину, первой женой которого была дочь маршала: якобы Будённый сокрушался, что такой популярный в народе герой (зять любил травить анекдоты про комдива), а неуч.
В анкете, заполненной перед поступлением в Академию Генштаба, Василий Чапаев в графе «Образование» указал: «самоучка». В некоторых биографиях комдива упоминается об офицерской школе, по окончании которой он получил звание фельдфебеля. Однако дочь Чапаева Евгения в книге «Мой неизвестный Чапаев» писала: отец, имея за плечами три класса церковно-приходской школы, в 1914 году, во время Первой мировой войны, проходил обучение в полковой учебной команде, где готовили кадры для унтер-офицерского состава. В Академии Генштаба комдив проучился всего месяц.
Как пишет Евгения Чапаева, ходатайствуя об отправке в действующую армию, он дошёл до Надежды Крупской. Якобы сам Ленин решил вопрос о судьбе героя Гражданской войны, сказав, что таким как Чапаев на самом деле место на фронте, а не в академии. Биографы комдива подтверждают, что уровень знаний у абитуриента высшего военного учебного заведения был крайне низким: он, к примеру, никогда не слышал о реке Сене, не мог сказать, в какое море впадает Висла. Дочь Чапаева, описывая краткосрочное пребывание отца в академии, объясняла его нежелание продолжать учёбу не только стремлением заниматься более привычным делом – воевать, но и условиями обучения: в академии преподавали царские офицеры, у них был свой подход к подаче материала, с которым практик Чапаев часто не соглашался. Он спорил с преподавателями, но учился хорошо, особенно интересовался топографией, инженерным делом, тактикой и историей…
Новость о том, что в Оренбургской области поставили памятник белогвардейцу Тимофею Сладкову, который вошёл в историю как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской войны, вызвала бурные обсуждения. С инициативой установки памятника Сладкову выступили уральские казаки. Так как местом его рождения является город Уральск, находящийся на территории современного Казахстана, то местом установки выбрали Первомайский район Оренбургской области. Средства на установку собирали среди казачества. Интересно, что появился монумент на улице Чапаева…
В Гражданскую войну казачество разделилось на два лагеря: одни воевали за белых, другие за красных.
Василий Михайлович Чернецов родился 3 апреля 1890 года близ хутора Иванкова станицы Калитвенской в семье потомственного казака, служившего в Войске Донском ветеринарным фельдшером.
Окончив реальное училище в станице Каменской, юноша поступил в Новочеркасское казачье юнкерское училище. Первую мировую он встретил в звании сотника 26‐го полка 4‐й Донской казачьей дивизии. Когда война приняла позиционный характер, возглавил кавалерийский отряд, с которым оперировал в тылу неприятеля. Отвага и дерзость Чернецова были поистине выдающими. К началу Февральской революции он имел чин есаула, был награждён орденами и Георгиевским оружием.
Свержение монархии вызвало у него энтузиазм, а потом Василия Михайловича занесло так сильно «влево», что, будучи избран депутатом Макеевского совета, он даже примкнул к большевистской фракции.
Но в ноябре, когда Временное правительство пало, настроение Чернецова стало меняться. Окончательно всё решила встреча с донским атаманом Калединым, который своей солдатской прямотой направил есаула на путь истинный: Россию сначала надо успокоить, привести в чувство и только потом заниматься реформами.
Чернецов стал ближайшим соратником Каледина – его щитом и мечом одновременно. Когда в декабре 1917 года атаман собрал находившихся в Новочеркасске казачьих офицеров, из примерно пяти тысяч пришло около восьмисот. Чернецов взывал к их патриотизму, а потом и к чувству самосохранения, закончив свою речь так: «Господа офицеры, если так придётся, что большевики меня повесят, то я буду знать, за что я умираю. Но если придётся так, что большевики будут вешать и убивать вас, благодаря вашей инертности, – то вы не будете знать, за что вы умираете».
В добровольческий отряд Чернецова записалось всего 27 офицеров, и ему пришлось обратиться к юнкерам, гимназистам, реалистам. Восторженная молодёжь шла к нему, чувствуя себя спасителями Отечества. А недостаток жизненного опыта притуплял инстинкт самосохранения, делая их, возможно, не очень умелыми, но отчаянными бойцами.
Отряд в шутку называли «донской каретой скорой помощи». «Чернецовцы» носились вдоль границ Донской области, перехватывая эшелоны, громя наступающие отряды Красной гвардии и заскакивая на подконтрольные большевикам территории Донбасса. Деникин, бывший тогда одним из руководителей Добровольческой армии, вспоминал: «В личности этого храброго офицера сосредоточился как будто весь угасающий дух донского казачества. Его имя повторяется с гордостью и надеждой. Чернецов работает на всех направлениях. Успех сопутствует ему везде, о нём говорят и свои, и советские сводки, вокруг его имени родятся легенды, и большевики дорого оценивают его голову».
После захвата станции Колпаково состоялось общение по телеграфу Чернецова с командующим красными войсками Антоновым-Овсеенко, который запросил условия для переговоров. Василий Михайлович потребовал распустить революционные войска, сдать всё оружие и прислать заложников. Уступать никто не собирался, но, несмотря на мизерность сил (до 500 человек при двух орудиях), казалось, что «чернецовцы» имеют шанс на победу.
23 января 1918 года его отряд в двух эшелонах очередной раз отправился в тыл красных. На семафоре возле Дебальцева белые выскочили из поезда и через поле атаковали железнодорожную станцию. Красные быстро разбежались, за исключением небольшой группы, пытавшейся занять оборону в одном из складских помещений. 13 бойцов попали в плен и были расстреляны.
Большевики наступление на Дон свернули, но в этот же день произошло событие, которое сторонники Каледина сравнивали с ударом ножа в спину.
Фёдор Григорьевич Подтёлков появился на свет 6 сентября 1886 на хуторе Крутовском. По семейному преданию, его дед привёз с русско-турецкой войны пленную турчанку, которая и родила ему сына – Григория Пантелеевича. Роды прошли в хлеву, «под тёлкой», – отсюда и фамилия.
Семья жила бедно. Из шестерых сыновей до революции 1917 года дожили только Фёдор и Матвей.
Фёдор благодаря своей богатырской внешности попал в гвардию – в 6‐ю Донскую конноартиллерийскую батарею и, вероятно, именно в столице увлёкся социалистическими идеями.
Недовольство существующей социальной системой усугубилось личной обидой. Во время Первой мировой Подтёлков счёл себя обойдённым, когда вместо него в первое офицерское звание хорунжего был произведён некий урядник Спиридонов. И хотя хорунжим он всё-таки стал, обида осталась.
В 1917 году Фёдор Григорьевич начал выдвигаться в качестве революционного вожака. Не то чтобы он был выдающимся оратором, но его импозантная внешность и голос производили на слушателей большое впечатление. Когда в конце 1917 года 6‐я Донская гвардейская батарея вернулась на Дон, разместилась она в Глубокой.
Во многом именно благодаря агитации, которую вёл Фёдор Григорьевич и его соратник прапорщик Михаил Кривошлыков, вернувшиеся с фронта казаки не вставали под знамёна Белого дела. Каледин мог рассчитывать только на Чернецова и отчасти на Добровольческую армию.
Подтёлков напирал именно на своё казачье происхождение, на то, что Вольный Дон должен иметь широкую автономию в составе России, и призывал поделиться землёй с иногородними, но не за счёт казачьих наделов, а за счёт «излишков» из государственного фонда.
Большевики относились к Фёдору Григорьевичу как к этакой «мелкобуржуазной накипи», но в той ситуации на Дону он был их главным козырем.
23 января 1918 года в станице Каменской был создан съезд фронтового казачества, объявивший о создании Донского военно-революционного комитета (ДОВРК) под председательством Подтёлкова.
Каледину отправили ультиматум с требованием разоружить формирования белых, распустить войсковой круг, и, разумеется, передать власть ревкомовцам.
Атаман отправил в Каменскую считавшийся относительно надёжным 10‐й полк, который присоединился к митингам. Пришлось снова задействовать «скорую помощь».
30 января «чернецовцы» заняли станции Зверево и Лихую, после чего устремились на Каменскую. Ревкомовцы без сопротивления ретировались в Глубокую.
Каменскую Чернецов хорошо знал ещё с тех пор, как учился там в реальном училище. Местные жители тоже приняли его дружелюбно, а молодёжь стала записываться в отряд, так что ему удалось сформировать четвёртую сотню.
Между тем Подтёлков воззвал о помощи к АнтоновуОвсеенко и отрёкся от попыток выторговать казакам у новой власти какие-нибудь преференции.
На станцию Лихую выдвинулись 3‐й Московский и Харьковский красные полки под командованием Саблина.
Чернецов погрузил своих бойцов в эшелон и отправился навстречу. Участник грянувшего затем боя Николай Туроверов так описывал события:
«Выгрузившись из вагонов, партизаны рассыпались правее и левее пути в редкую цепь и во весь рост, не стреляя, спокойным шагом двинулись к станции. Какой убогой и жидкой казалась эта тонкая цепочка мальчиков в сравнении с плотной, тысячной толпой врага. Тотчас же противник открыл бешеный пулемётный и ружейный огонь. У него оказалась и артиллерия, но шрапнели давали высокого «журавля» над нашей цепью, а гранаты рыли полотно и только три-четыре угодили в пустые вагоны. Наши орудия стреляли очень редко (каждый снаряд был на учёте), но первым же попаданием был взорван котёл паровоза у заднего эшелона противника, благодаря чему все три состава остались в тупике.
Партизаны продолжали всё так же, спокойно и не стреляя, приближаться к станции. Было хорошо видно по снегу, как-то один, то другой партизан падал, точно спотыкаясь.
Наконец наша цепь, внезапно сжавшись уже в 200 шагах от противника, с криком «ура» бросилась вперёд. Через 20 минут всё было кончено. Беспорядочные толпы красногвардейцев хлынули вдоль полотна на Шмитовскую, едва успев спасти свои орудия. На путях, платформах и сугробах вокруг захваченных 13 пулемётов осталось более ста трупов противника.
Но и наши потери были исключительно велики, не только среди партизан (особенно бросившихся на пулемёты), но и малочисленного офицерского состава. Уже в темноте сносили в вагоны, спотыкаясь через трупы товарищей, раненых и убитых партизан. На матовых от мороза, тускло освещённых стёклах санитарного вагона маячили тени доктора и сестёр да раздавались стоны и крики раненых».
А в пустом зале 1‐го класса, усевшись на замызганном полу, партизаны пели:
От Козлова до Ростова
Гремит слава Чернецова.
Сам же Чернецов, узнав о потерях, сказал: «Это хуже поражения».
Каледин через один чин произвёл Василия Михайловича в полковники, добавив, что сделал бы его и генералом.
Понимая, что запас удачи у него иссякает, Чернецов всё же принял решение атаковать главную базу противника в Глубокой. Отступление было равноценно сдачи всей Донской области.
Сам Чернецов с полуторасотней партизан при трёх пулемётах и одном орудии выступил утром 3 февраля, собираясь обойти Глубокую с северо-востока и атаковать её, предварительно испортив железнодорожные пути, связывающие с Донбассом. Вторая половина отряда должна была напасть на станицу с юга.
Удар планировалось нанести ровно в полдень, но при этом, правильно оценивая силы противника (примерно в тысячу красногвардейцев), Чернецов не знал, что к ним уже присоединились казаки из 27‐го и 44‐го полков, возглавляемые войсковым старшиной Николаем Голубовым. Привёл Подтёлков и своих сослуживцев из 6‐й Донской батареи, меткий огонь которой во многом решил исход схватки.
Вторая половина чернецовского отряда опоздала с атакой, и Василий Михайлович примерно с 60 бойцами попал в окружение. Имея всего одно орудие, отважная молодёжь стойко выдерживала наскоки пяти сотен конницы.
Пытаясь поддержать боевой дух, Чернецов прокричал, что производит всех в прапорщики, и скомандовал: «Пли!» Первая атака была отбита. После второй все прапорщики стали поручиками. Но третьей атаки они не выдержали.
Василий Михайлович попытался укрыться в станице Калитвенской, где и был схвачен.
Утром 6 февраля 1918 года он предстал перед Подтёлковым, который начал осыпать его оскорблениями. Сам момент убийства пленного полковника имеет две трактовки.
Некоторые советские авторы, пытаясь закамуфлировать факт расправы над безоружными людьми, писали, будто Чернецов выхватил припрятанный наган и был зарублен, так сказать, в порядке самообороны, причём часть его соратников успела разбежаться.
Однако Михаил Шолохов в «Тихом Доне», отталкиваясь от свидетельств очевидцев, описал всё гораздо жёстче:
«– Попался… гад! – клокочуще низким голосом сказал Подтёлков и ступил шаг назад; щёки его сабельным ударом располосовала кривая улыбка.
– Изменник казачества! Подлец! Предатель! – сквозь стиснутые зубы зазвенел Чернецов.
Подтёлков мотал головой, словно уклоняясь от пощёчин, – чернел в скулах, раскрытым ртом хлипко всасывал воздух.
Последующее разыгралось с изумительной быстротой. Оскаленный, побледневший Чернецов, прижимая к груди кулаки, весь наклонясь вперёд, шёл на Подтёлкова. С губ его, сведённых судорогой, соскакивали невнятные, перемешанные с матерной руганью слова. Что он говорил – слышал один пятившийся Подтёлков.
– Придётся тебе… ты знаешь? – резко поднял Чернецов голос.
Слова эти были услышаны и пленными офицерами, и конвоем, и штабными.
– Но-о-о… – как задушенный, захрипел Подтёлков, вскидывая руку на эфес шашки.
Сразу стало тихо. Отчётливо заскрипел снег под сапогами Минаева, Кривошлыкова и ещё нескольких человек, кинувшихся к Подтёлкову. Но он опередил их; всем корпусом поворачиваясь вправо, приседая, вырвал из ножен шашку и, выпадом рванувшись вперёд, со страшной силой рубнул Чернецова по голове.
Григорий видел, как Чернецов, дрогнув, поднял над головой левую руку, успел заслониться от удара; видел, как углом сломалась перерубленная кисть и шашка беззвучно обрушилась на откинутую голову Чернецова. Сначала свалилась папаха, а потом, будто переломленный в стебле колос, медленно падал Чернецов, со странно перекосившимся ртом и мучительно зажмуренными, сморщенными, как от молнии, глазами.
Подтёлков рубнул его ещё раз, отошёл постаревшей грузной походкой, на ходу вытирая покатые долы шашки, червоневшие кровью.
Ткнувшись в тачанку, он повернулся к конвойным, закричал выдохшимся, звенящим голосом:
– Руби-и-иих… такую мать!! Всех! Нету пленных… в кровину, в сердце!!»
К середине февраля Донская область была захвачена большевиками. Каледин застрелился (или был убит), Добровольческая армия ушла на Кубань, уцелевшие белые казаки атамана Петра Попова растворились в Сальских степях.
23 марта 1918 года ДОВРК провозгласил «самостоятельную Донскую советскую республику в кровном союзе с Российской Советской республикой». Должность главы исполнительной власти – Совнаркома – досталась Подтёлкову. Он, так сказать, стал коллегой Ленина, хотя и в региональном масштабе.
И одновременно по всей Донской области заполыхали казачьи восстания. Причинами стали бездумное изъятие казачьих земель в пользу иногородних и совершенно зашкаливающие репрессии, жертвами которых становились не только бывшие «буржуи» и офицеры, но и казаки, искренне и справедливо считавшие себя трудящимся населением. Многие, наверное, вспоминали слова Чернецова о том, что он, по крайней мере, знает, за что погибнет.
Большевики пытались найти опору в сравнительно небогатых верхнедонских станицах. 1 мая 1918 года Подтёлков возглавил специальную комиссию, которая выехала из Ростова-на-Дону в Усть-Медведецкий и Хопёрский округа с большой суммой денег, предназначенной для агитации и вербовки в Красную армию.
Уже в дороге Фёдор Григорьевич понял, что, по сути, его со всех сторон обложили разрозненные, но многочисленные силы повстанцев. Численность отряда сократилась со 120 до 75 человек, а 10 мая «подтёлковцы» сдались белым в районе хутора Пономарёва.
Теоретически они могли бы сражаться до последнего, но, вероятно, рассчитывали на пощаду; на то, что с вражеской стороны у многих из них были родичи, сослуживцы. Среди тех, кто пленил Подтёлкова, оказался и тот самый хорунжий Спиридонов, который когда-то обошёл его в чине и уже ставший подъесаулом. Перед сдачей они даже встретились один на один, на кургане в степи, и о чём-то поговорили. На вопрос «о чём?» Спиридонов потом отвечал лаконично: «О прошлом».
Но общее прошлое уже не сближало. Сказано и сделано к тому времени было слишком много. Военно-полевой суд сразу же припомнил Фёдору Григорьевичу расправу над Чернецовым, приговорив его и Кривошлыкова к повешению. Остальных пленников расстреляли.
Из романа «Тихий Дон»:
«Один из офицеров ловким ударом выбил из-под ног Подтёлкова табурет. Всё большое грузное тело Подтёлкова, взвихнувшись, рванулось вниз, и ноги достали земли. Петля, захлестнувшая горло, душила, заставляла тянуться вверх. Он приподнялся на цыпочки – упираясь в сырую притолоченную землю большими пальцами босых ног, хлебнул воздуха и, обводя вылезшими из орбит глазами притихшую толпу, негромко сказал:
– Ишо не научились вешать. Кабы мне пришлось, уж ты бы, Спиридонов, не достал земли…
Изо рта его обильно пошла слюна. Офицеры в масках и ближние казаки затомашились, с трудом подняли на табурет обессилевшее тяжёлое тело…
Вновь грузно рванулось вниз тело, лопнул на плече шов кожаной куртки, и опять кончики пальцев достали земли. Толпа казаков глухо охнула. Некоторые, крестясь, стали расходиться. Столь велика была наступившая растерянность, что с минуту все стояли как заворожённые, не без страха глядя на чугуневшее лицо Подтёлкова.
Но он был безмолвен, горло засмыкнула петля. Он только поводил глазами, из которых ручьями падали слёзы, да кривя рот, пытаясь облегчить страдания, весь мучительно и страшно тянулся вверх.
Кто-то догадался: лопатой начал подрывать землю. Спеша, рвал из-под ног Подтёлкова комочки земли, и с каждым взмахом всё прямее обвисало тело, всё больше удлинялась шея и запрокидывалась на спину чуть курчавая голова.
Верёвка едва выдерживала шестипудовую тяжесть; потрескивая у перекладины, она тихо качалась, и, повинуясь её ритмичному ходу, раскачивался Подтёлков, поворачиваясь во все стороны, словно показывая убийцам своё багрово-чёрное лицо и грудь, залитую горячими потоками слюны и слёз».
Моисей Соломонович Урицкий (1873–1918) родился в богатой купеческой семье, но рано остался без отца и воспитывался матерью в строго религиозном духе, изучая Талмуд. Под влиянием старшей сестры увлёкся русской литературой и, сдав экзамены, смог учиться в гимназии. Гимназистом участвовал в революционном кружке и отряде самообороны против еврейских погромов.
В 1893 поступил на юридический факультет Киевского университета и являлся одним из руководителей киевской организации РСДРП. В 1897 году, после окончания университета, поступил на военную службу, но через несколько дней был арестован как социал-демократ.
С этого времени неоднократно подвергался репрессиям. После II съезда РСДРП примкнул к меньшевикам. В 1905‐м вёл революционную работу в Петербурге и Красноярске, но вскоре был арестован. Участвовал в революции 1905–1907 гг., руководил созданной им группой боевиков, грабивших инкассаторов.
В 1906‐м был выслан за границу, жил в Германии и Дании. Исполнял обязанности личного секретаря Г. В. Плеханова.
В Дании находился под наблюдением полиции, подозревавшей его в связях с контрабандистами. В 1912‐м на конференции в Вене был избран в Организационный комитет РСДРП от группы троцкистов. В агентурной записке в охранное отделение Урицкий характеризовался так: «Не производит впечатления серьёзного человека, хотя и считается очень дельным партийным работником».
С началом Первой мировой войны занял интернационалистскую позицию, то есть желал поражения своей страны в войне с Германией. Вместе с Л. Д. Троцким сотрудничал в печати. В 1917‐м, после Февральской революции, вернулся в Петроград, был одним из лидеров «межрайонцев»; вместе с ними был принят в большевистскую партию на VI съезде, стал членом ЦК.
В октябре 1917 года стал членом Петроградского военно-революционного партийного центра, руководившего подготовкой вооружённого восстания, а затем – членом Военно-революционного комитета (ВРК). В ноябре – декабре 1917 г. Урицкий руководил разгоном Учредительного собрания, для чего был создан (во главе с Урицким) Чрезвычайный военный штаб большевистской партии. Был противником заключения Брестского мира, разделяя точку зрения левых коммунистов, но был вынужден подчиниться партийной дисциплине.
С созданием Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК) Урицкий – один из самых активных её функционеров. В марте 1918 г. его назначают председателем Петроградского ЧК, а с апреля – одновременно – комиссаром внутренних дел Северной области. Таким образом, в его руках оказался полицейский контроль над огромной территорией: Северная область включала не только Петроград, но и Мурманск и Архангельск. По выражению Луначарского, «Урицкий был железной рукой, которая держала за горло контрреволюцию».
Однако террор, развязанный Урицким (задолго до его официального объявления большевиками), был направлен вообще против всех, кто хотя бы потенциально мог не поддержать новую власть. По его приказу были расстреляны рабочие демонстрации в защиту Учредительного собрания (жертв – многие сотни), закрыты все независимые от большевиков газеты, сразу же после разгона Учредительного собрания Урицкий произвёл массовые аресты «подозрительных»; за их освобождение требовалось внести «контрибуцию» – то есть выкуп. Примечательно, что в этот момент он ещё не являлся председателем Петроградской ЧК и его действия даже с чисто формальной точки зрения были полнейшим произволом.
В марте 1918 года по его распоряжению подвергнуты пыткам, а затем убиты офицеры Балтийского флота и члены их семей. Несколько барж с арестованными офицерами были потоплены в Финском заливе. Аресты с тех пор шли круглосуточно, и попавший в Петроградскую ЧК имел очень мало шансов вернуться оттуда живым. По рассказам современников, само имя Урицкого вызывало ужас. Аналогичные действия Урицкий предпринимал по всей Северной области, а в Архангельске по его распоряжению уже в апреле 1918‐го был создан первый концлагерь; создание концлагерей планировалось и в районе Петрограда (Шлиссельбург и Ораниенбаум, Тихвин), но осуществить этот замысел Урицкий не успел: был застрелен молодым офицером Леонидом Канегисером в ответ на казнь его друга и аресты офицеров. Смерть Урицкого послужила основанием для усиления «красного террора». В качестве «ответной меры» чекисты только в Петрограде расстреляли 900 человек.
Урицкий был похоронен с государственными почестями в центре Петербурга, был объявлен траур (и арестовывались те, кто оказывался его соблюдать), Ленин лично приехал на похороны и в своей траурной речи назвал Урицкого «примером настоящего большевика»; в честь него были названы улицы и посёлки в разных местах, а также переименован г. Гатчина.
О генерале Александре Панфомировиче Николаеве написано много статей и книг. Сын солдата, боевой генерал Русско-японской и Первой мировой войн, он был награждён многочисленными боевыми наградами. После Октябрьской революции он сделал выбор в пользу советской власти и воевал за неё. С лета 1918 года Николаев командовал 3‐й бригадой 2‐й Петроградской пехотной дивизии, позднее сражаясь против белых на Северо-Западе под Ямбургом и Гдовом, в т. ч. против частей Северного корпуса генерала Родзянко. В ночь на 13 марта 1919 года штаб Николаева был захвачен в районе деревни Попкова Гора к югу от Нарвы. Был взят в плен и ряд подразделений. Рядовые красноармейцы, несколько сотен человек, в большинстве своём были расстреляны на месте, а Николаева перевезли в Ямбург. Здесь после расследования, после его отказа отречься от советской власти 28 мая 1919 года он был повешен. Генеральский выбор советской власти и его решение идти до конца стали одним из символов Гражданской войны.
Сергей Лазо появился на свет 7 марта 1894 года в Бессарабии в дворянской семье Георгия Ивановича и Елены Степановны Лазо. Сергей окончил Кишинёвскую гимназию, после чего поступил в Петербургский технологический институт. В 1914 году он был вынужден возвратиться в Бессарабию из-за болезни матери. Спустя несколько месяцев он поступил на физико-математический факультет Московского университета. В университете он примкнул к революционным кружкам. В 1916 году его мобилизовали в армию.
Империя нуждалась в скорейшем восполнении выбитых офицерских кадров, поэтому студента Лазо отправили в Алексеевское пехотное училище, из которого он вышел прапорщиком, а вскоре стал подпоручиком.
Служить Лазо был направлен в 15‐й Сибирский запасный стрелковый полк в Красноярске. В городе было много политических ссыльных, с которыми революционно настроенный молодой офицер сблизился. Он примкнул к партии эсеров. Сергей своей решительностью и убеждённостью нравился солдатам. Поэтому неудивительно, что, когда до Красноярска дошла весть о Февральской революции, солдаты 4‐й роты 15‐го Сибирского стрелкового полка выбрали Лазо своим командиром.