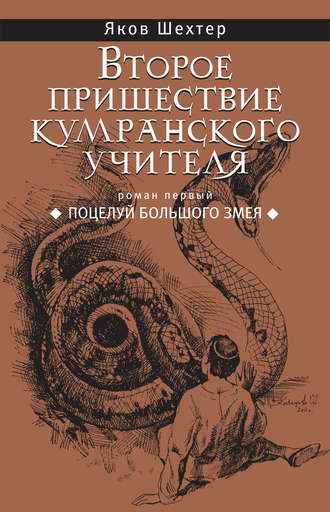
Яков Шехтер
Поцелуй Большого Змея
Февраль 2011
Голос Александра жужжал в телефонной трубке, словно шмель, накрытый стаканом.
– Это жизненно важно, – повторял он. – Пожалуйста, позвольте все вам выложить.
С Александром мы были едва знакомы и, увидев на табло сотового телефона его имя, я несколько секунд раздумывал, снимать ли трубку. Стоял жаркий зимний вечер, компьютерный файл с версткой моей новой книги, вычитанной всего до половины, укоряюще светился на экране. Верстку ждали в издательстве, и отвечать на необязательный звонок попросту не хватало времени. Но что-то толкнуло меня нажать кнопку приема, и об этом поступке мне придется размышлять до самого конца жизни.
Александр работал в иерусалимском музее Книги реставратором кумранских рукописей. Мы познакомились, когда я собирал материал для романа. Реставратор оказался малоразговорчивым, замкнутым человеком. Посидев с ним полчаса за столиком кафе, я понял, что ничего толком узнать не удастся, и стал прощаться.
– Почему публикация рукописей Мертвого моря занимает так много времени? – спросил я напоследок. – Ведь бедуинский мальчик залез в пещеру шестьдесят лет тому назад!
Александр только покачал головой.
– Во-первых, свитков очень много. Во-вторых, их состояние весьма плачевно, по существу, мы работаем с почти двадцатью тысячами фрагментов, которые приходится собирать, точно огромный пазл. А в-третьих, – тут он тяжело вздохнул. – В-третьих, существуют причины, о которых я не могу говорить.
– Орден розенкрейцеров не позволяет? – усмехнулся я.
– Да, что-то в этом духе.
Мы немного пошутили о теориях конспирации, ангелах и демонах, кодах да Винчи, прочей ерунде и расстались, обменявшись номерами телефонов и электронными адресами. Вернувшись домой, я внес емелю реставратора в Outlook Express и, решив связаться с ним при удобном случае, забыл о его существовании.
Прошло два года, и вот мой сотовый завибрировал, высветив имя и фамилию Александра.
Его голос звучал взволнованно.
– Я никак не решался позвонить. Но дело не терпит отлагательств. Это жизненно важно!
Я посмотрел на часы и решил, что, пожалуй, успею до утра вычитать верстку.
– Конечно, конечно, говорите.
Александр вздохнул с облегчением.
– Не могу вам всего объяснить, но недавно я закончил большую работу, труд нескольких лет и… – тут он запнулся.
– Поздравляю, – сказал я. – А о чем идет речь?
– Понимаете, – продолжил Александр, – поток кумранских рукописей не прекращается до сих пор. Бедуины постоянно обшаривают пещеры и расселины в районе Мертвого моря. За каждый свиток платят очень и очень большие деньги. Пещер там неисчислимое множество, и раз в несколько лет, помимо всякой ерунды и подделок, к нам попадает настоящий документ. Так вот, в середине семидесятых Музей приобрел кувшин с четырьмя слипшимися в одно целое свитками. Палеографические данные и внешние признаки позволяли с уверенностью отнести их к тому же времени, когда был написан основной корпус рукописей.
– А что вы называете палеографическими данными? – уточнил я.
– Ну, вид пергамента: из козьей или овечьей кожи, тип чернил, шрифт, вид и материал чехлов, куда были упрятаны свитки. А главное, конечно, синхротронный рентгеновский анализ.
– Какой, простите, анализ?
– Специально для нашего института разработали очень сильный ускоритель Diamond, вырабатывающий сверхъяркие рентгеновские лучи. Они свободно проникают сквозь молекулярную структуру пергамента, но задерживаются на вкраплениях железа в чернилах. Компьютерная программа позволяет обрабатывать послойные изображения манускриптов и создавать на их основе трехмерные модели.
– Мне эта техника пока ничего не говорит. Что дают эти модели?
– С их помощью расшифровывают невидимые снаружи надписи неразвернутого свитка. Приблизительно, конечно, расшифровывают. Если текст, по предварительной оценке, заслуживает внимания, начинаются реставрационные работы. Свиток нарезают на тонкие полосы и начинают отшелушивать друг от друга слои пергамента. Вот этим-то я и занимался.
– Замечательная служба, – сказал я. – Значит, скоро мы узнаем, что написано в этих свитках?
– Узнать можно уже сегодня. Но боюсь, что до широкой публики эти тексты никогда не доберутся.
– О! – подбодрил его я. – Вот теперь начинается самое интересное.
– Интересное… – Александр тяжело вздохнул. – Кому интересное, а кому… В общем, то, о чем говорится в моих четырех свитках, может сильно повлиять на общепринятые представления о главной религии европейской цивилизации. Как только свитки стали читаемы, информация, несмотря на запрет, сразу просочилась наружу. В общем, – он слегка запнулся, – руководство института подверглось серьезному давлению.
– А в чем цель давления? Закрутить свитки обратно и снова запрятать в пещере?
– Да, что-то вроде этого.
– И кто же давит? Израильское правительство?
Александр снова вздохнул.
– Если бы. С правительством мы бы договорились.
– Все ясно – на сцене дрессированные розенкрейцеры и ряженые тамплиеры под руководством Дэна Брауна. Вы меня разыгрываете, Александр.
– Хотелось бы.
– Так кто же на вас давит?
– Извините, но об этом я не могу с вами говорить.
– Ладно, не можете, так не можете. Тогда объясните, как эти свитки могут повлиять на главную религию европейской цивилизации? Вы ведь христианство имеете в виду?
– Да, христианство.
– Похоже, у вас в институте потихоньку развилась мания величия. Подумаешь, раскопали еще четыре папируса. Разве мало их покоится в музеях мира? Девяноста девяти процентам христиан нет до ваших папирусов ни малейшего дела.
– Не папирусов, а пергаментов, – поправил меня Александр. – А свиток свитку рознь. Понимаете, современный человек и без того не страдает избытком совести. Канаты морали, держащие на привязи животные страсти, давно превратились в тонкие бечевки. Обрыв еще одной жилочки может оказаться решающим.
– Решающим для чего?
– Для всего, – очень серьезно ответил Александр. – Для всего. Те, кто оказывает давление на руководство института, вовсе не злодеи и не террористы. Они преследуют самые лучшие, самые высокие цели. Чего, правда, я не могу сказать об их средствах.
– Итак, – разговор затягивался, а количество невычитанных страниц верстки продолжало оставаться угрожающе большим. – Что же вы хотите мне рассказать?
– Да нет, рассказывать придется очень долго. Речь скорее идет о показе. Несколько месяцев назад я окончательно застеклил свитки и сделал точные фотокопии.
– Окончательно что?
– Застеклил. Ну, это такая технология. Восстановленный фрагмент запаивается между тонкими пластинами из органического стекла. Воздух перестает поступать, и процесс разрушения останавливается.
– Так вы хотите показать мне фотографии свитков?
– Тоже нет. Вы бы не смогли их прочесть. Хоть они написаны шрифтом, похожим на нынешний, и язык вроде знаком, но каллиграфия совсем другая, и чтоб научиться понимать такой текст, нужно потратить много времени и сил.
– Но тогда что вы хотите мне показать?
– Я загнал снимки в компьютер, и специальная распознающая программа перевела их на современный язык. Конечно, это предварительный, машинный перевод. Ни один серьезный исследователь им пользоваться не станет. Но для того, чтобы получить предварительное представление, он вполне годится.
– Ну, это совсем другое дело. Присылайте скорее, я с удовольствием почитаю.
– Да, да, – Александр запнулся. Он словно хотел сказать еще что-то, но не решался.
– Тамплиеры мешают? – подсказал я.
– Знаете, – со вздохом произнес Александр, – поначалу эта история казалось мне фантастической. Но после вчерашних событий фантастика превратилась в трагедию.
– А что произошло вчера?
– Вот этого я и не могу рассказать.
Мое терпение лопнуло.
– Послушайте, Александр, – сказал я довольно жестким тоном. – Вы оторвали меня от важной и срочной работы. Для чего? С целью сообщить о том, что не можете ни о чем рассказывать?
– Не сердитесь, – попросил Александр. – Я бы никогда не стал вас беспокоить, но из людей, связанных с прессой, я знаком лишь с вами. А положение мое такое, что…
Он замолк.
«Бедняга или двинулся, расшифровывая рукописи, – подумал я, – или действительно вокруг него завертелась необычная история».
– Да я не сержусь. Но сами посудите, вы звоните мне и пытаетесь угостить обломками маятника Фуко.
– Чем угостить? – удивился Александр.
– Историями из романа Умберто Эко.
– Извините, не читал. В последние годы я просматриваю только книги по специальности.
– Понятно.
Мы помолчали. Я перевел глаза на экран компьютера и сразу заметил опечатку. Пальцы сами потянулись к клавиатуре, но тут Александр снова возник из тишины эфира.
– В общем, если вы не против, я сейчас пошлю вам по электронной почте файл с расшифровкой четырех свитков. Почитайте, посмотрите.
– С удовольствием, – сказал я. – И это все, чего вы от меня ожидаете?
– Ну-у, – Александр снова вздохнул. – В общем-то, пока все. Это на всякий случай, понимаете. Мало ли что. Вы человек известный…
– Вы имеете в виду, что со мной тамплиеры будут осторожны?
– Скорее всего, да.
– Ладно, посылайте, почитаю. Но не быстро, у меня тут куча дел накопилась и, честно признаюсь, на иврите я читаю куда медленнее, чем по-русски.
– Да ради Бога! – вскричал Александр. – Когда вам будет удобно. Только подтвердите, пожалуйста, получение письма.
– Подтвержу, отправляйте.
Письмо пришло через пять минут. Грузилось оно довольно долго. Александр не удержался и вложил в текст Ворда с десяток фотографий застекленных фрагментов, чем очень утяжелил файл.
Я пробежался по нему курсором, убедился, что файл открывается до самого конца, быстро отстучал подтверждение, нажал Reply и забыл об Александре.
Спустя две недели после разговора я шел по улице, размышляя над послесловием к книге, которое издатель неожиданно потребовал написать. Проходя мимо магазина, торгующего бытовой техникой, я бросил беглый взгляд на витрину и замер. На меня смотрело искаженное гримасой ужаса и боли огромное лицо Александра.
Спустя мгновение лицо исчезло и по замелькавшим кадрам я понял, что смотрю на экран огромного телевизора, показывающего сводку новостей. Пока я вошел в магазин, чтобы услышать голос диктора, речь шла уже о спорте.
– Что случилось? – спросил я у продавца, лениво подпирающего холодильник в ожидании посетителей.
– Теракт в Иерусалиме. Неизвестный ударил ножом прохожего и скрылся. Неизвестный… – продавец презрительно хмыкнул. – Новое определение арабов.
– А что с пострадавшим? – спросил я.
– Убит на месте. Нападавший, разумеется, скрылся. Полиция прочесывает соседние кварталы. Найдут они его, как же!
Губы продавца искривила усмешка.
Я дождался следующей сводки новостей, но Александра больше не показали. Однако диктор назвал его фамилию, и сомнения рассеялись. Мой знакомый был убит ударом ножа в спину, а убийца бесследно исчез.
Вернувшись домой, я рассказал жене всю историю моих недолгих отношений с Александром.
– Надеюсь, ты не думаешь, – с подозрением спросила она, – будто причиной его смерти послужили те самые четыре свитка?
– Конечно, нет, – сказал я…
Вечером, когда я добрался до середины послесловия, мой сотовый снова завибрировал. Я посмотрел на него с суеверным страхом. На табло возникла надпись Private. Тот, кто звонил, сделал свой номер невидимым.
«Звони, звони», – подумал я и продолжил работу. Но телефон не унимался. Через пару минут мои нервы не выдержали, я схватил телефон и с раздражением поднес к уху.
– Вас беспокоят из полиции. Отдел борьбы с терроризмом, инспектор Сафон, – произнес кто-то с сильным итальянским акцентом.
– Слушаю вас.
– Я бы хотел обсудить с вами некоторые моменты, касающиеся прошлого убитого сегодня господина Александра Акермана. Не будете ли вы любезны спуститься вниз и подождать машину, которая подберет вас не более чем через десять минут.
Я похолодел. Мне уже доводилось встречаться с сотрудниками отдела борьбы с терроризмом, правда в совсем ином качестве, и я примерно представлял себе их лексику. Человек с таким акцентом, выражающийся столь книжным языком, не мог быть инспектором этого отдела.
– Простите, – сказал я, с трудом ворочая языком, – но сегодня мне нездоровится.
– Хорошо, – с неожиданной легкостью согласился инспектор Сафон. – Тогда я пошлю за вами машину завтра в то же время.
«Что за ерунда! – чуть не вырвалось у меня. – Почему нужно вызвать человека на беседу ночью? Разве полиции не хватает дневных часов?»
Нет, человек на том конце провода не мог быть полицейским.
– Завтра я тоже не смогу. И вообще, если вы хотите беседовать со мной, пришлите официальную повестку, и я приду на встречу со своим адвокатом.
– Зачем такие формальности, уважаемый господин? – огорчился собеседник. – Мы всего лишь хотели узнать, какую информацию передал вам две недели назад по электронной почте господин Акерман.
– А какое это имеет отношение к его гибели? – спросил я.
– Мы не знаем, какая именно ниточка приведет нас к преступнику, – вежливо ответил мнимый инспектор. – Поэтому проверяем все возможные направления. Понимаете, все, – и рассчитываем на вашу помощь.
– Простите, но в ближайшие дни я буду очень занят. Почему мы не можем обсудить интересующий вас вопрос по телефону?
– Я объясню это вам при личной встрече, – пообещал собеседник и отключился.
Смешливое настроение жены точно ветром сдуло. Некоторое время мы молча сидели за столом, глядя друг на друга. В голове неотвязно крутились слова Александра: «Поначалу эта история казалось мне фантастической. Но после вчерашних событий фантастика превратилась в трагедию».
– Как отыскать черную кошку в темной комнате, – вдруг спросила жена. – Особенно, если ее там нет?
– Не знаю, – честно признался я. – И вообще, мне сейчас не до кошек и конфуцианства.
– Очень просто, – сказала жена. – Нужно принести ее с собой.
– То есть?
– Кто-то ищет эти рукописи. Кто-то не хочет предавать их огласке. Ты никогда не сумеешь доказать, что не получал от Акермана файл. Тем более, что ты его действительно получил. Значит – выход один.
Она помедлила и внимательно посмотрела на меня.
– Да, выход один. Ты садишься за компьютер и за два, три, десять дней переводишь текст на русский язык. После этого рассылаешь по издательствам и журналам. В ту минуту, когда тайна перестает быть тайной, инспектору Сафону ты становишься совершенно неинтересным.
– За десять дней перевести такое количество текста? Это невозможно!
– Десять дней – максимальный срок, не вызывающий подозрений. Я всем буду говорить, будто ты заболел и не вылезаешь из постели. Мы закроем наглухо жалюзи, а ты не станешь отвечать на телефонные звонки. Следующее свое действие они предпримут не раньше, чем через десять дней. За это время ты обязан успеть!
И я принялся за работу. Конечно, сделать ее можно и нужно было куда лучше. Но я просто не мог себе позволить шлифовать лексику героев повествования, наделяя каждого личной интонацией, я спешил передать суть рассказа. Да простит меня читатель за то, что все действующие лица говорят похожими фразами, разве я мог в эти сумасшедшие дни и ночи заботиться еще и о красоте изложения!? Мною двигали куда более существенные и, надеюсь, понятные соображения, чем законы литературы. И если текст, который вы сейчас будет читать, покажется вам корявым, а герои косноязычными – не судите строго автора, ведь он думал не о хорошей прозе, а о спасении собственной жизни.
Глава I
Рождение дара
Моя мать, добрая и благородная женщина, обладала удивительным воображением. Картины, возникавшие в ее голове, события, которые она себе представляла, тут же становились родными сестрами реальности. Она не обманывала ни себя, ни других, она искренне и свято верила в придуманный ею мир, и первой страдала от его несовпадения с нашей действительностью.
Она была удивительной рассказчицей, и ей страстно хотелось передать слушателям восторг перед миром, порожденным ее фантазией. Я хорошо помню томительные вечера в нашем домике, когда отец, быстро засыпавший после ужина, оставлял нас вдвоем. Мать переносила грубый глиняный светильник к моей постели, усаживалась рядом и, поглядев несколько минут на трепещущий язычок пламени, начинала рассказывать. Огонек блестел и переливался в ее глазах, нежные мягкие губы смешно изгибались, то обнажая в улыбке влажно сверкавшие зубы, то рассерженно собираясь куриной гузкой.
Я слушал, как зачарованный. Мать рассказывала о Давиде и Голиафе, о царе Шауле и ведьме, о войнах Маккавеев, о египетских казнях и рассечении Красного моря. И как-то так получалось, что я оказывался прямым потомком главных героев каждого повествования. Одним вечером мать выводила наш род из чресел царя Давида, но уже на следующий я оказывался родственником старого Матитьягу Хасмонея, поднявшего бунт против греческого владычества. Явные противоречия ничуть не смущали мою мать. Много позже я как-то спросил отца:
– Как мы можем одновременно быть потомками царя Давида и первосвященников из рода Леви?
– Это мама тебе рассказала? – вместо ответа спросил отец.
– Да, мама.
Отец хмыкнул.
– Видишь ли, сынок, весь наш народ произошел от Авраама и Сарры, следовательно, все мы родственники. В большей или меньшей степени, но родственники.
– Но ведь все люди произошли от Адамы и Евы, – не унимался я. – А значит, все мы уже в той или иной степени родственники.
– Ты прав, сынок, – отец погладил меня по голове и закончил разговор.
Отец казался мне великаном. Он и вправду был высокого роста, с жилистыми, крепкими руками, коротко остриженной по ессейскому обычаю головой. В его длинной окладистой бороде серебрились первые признаки подступающей мудрости, но глаза горели веселым, живым огнем. Рассказы матери он выслушивал с добродушной улыбкой и сразу после их окончания всегда переводил разговор на другую тему.
Мое детство прошло под звуки материнского голоса. События дня отступали перед красочностью вечерних рассказов. Мать не просто воспроизводила события, она их представляла: глазами, руками, подергиванием плеч, подъемом голоса. Я смотрел на тени, мечущиеся по тускло освещенным стенам нашего домика, а в это время перед моими глазами вставали пестрые, полные жизни улицы Иерусалима, цветущие поля Галилеи, белые колонны Храма.
Потом, оказавшись на тех самых улицах, пройдя пешком через сады Галилеи, побывав в Храме, я увидел, насколько мир, куда в детстве приводила меня мать, был красочнее, веселее, добрее и лучше, чем настоящий. Мать распоряжалась в нем, повелевая царями, пророками и целыми народами по своему пониманию и усмотрению, и это получалось удачнее, чем у подлинных царей и священников. Она правила мудро и справедливо, милосердная царица мира, добрая мать всего сущего, и престол будущего царствования по праву принадлежал мне, единственному наследнику и обожаемому сыну. Вселенная существовала для нас двоих, и такая мелочь, как родословная, ничего не весила на точнейших весах справедливости, коими определялись в этой Вселенной заслуги моей матери.
Наверное, самым правильным было бы оставить волшебный мир только для нас, но радость, гордость и восторг, подступающие к горлу матери, иногда перехлестывали через край. Завистливые люди плохо воспринимали ее рассказы о событиях в нашем мире. Им почему-то казалось, будто, говоря о воображаемом, мать претендует и на реальное. Возможно, поэтому мы постоянно переезжали, меняя заброшенный домик у края одной деревни на точно такой же у края другой.
Мои родители, третье поколение детей Света, скрупулезно придерживались законов, оставленных Учителем Праведности. Детям Света не пристало смешиваться с сынами Тьмы, пусть и те и другие относятся к народу Завета. Поэтому мы никогда не селились в городе или в центре деревни.
Наша семья не принадлежала к аристократии ессеев, ведь идущие путем духа дают обет безбрачия, поэтому само понятие семьи у детей Света отсутствует. Моя мать страшно гордилась тем, что два ее брата стали избранными и поселились в Хирбе-Кумран.
Ессеи – благочестивые целители, – так называют избранных, удалившихся от суеты и грязи мира в прохладную тишину кумранских подземелий. Мать упоминала братьев с трепетом в голосе и не уставала повторять, что, возможно, и я удостоюсь чести поселиться в святилище праведных и пристанище чистых. Но для этого необходимо… За этим следовал такой перечень качеств, которые требовалось в себе развить, и ступеней, по которым долженствовало вскарабкаться, что у меня сразу пропадало желание даже видеть белые стены Хирбе-Кумрана.
Возвышенная жизнь праведников вовсе не волновала мое воображение. Я не хотел покидать мир, в котором находился: цветной, шумящий мир, наполненный светом и тенью, ароматами цветов и щебетом птиц. Что же касается мечты, то стоило сумеркам наполнить комнату, как я тут же переносился в мир моего воображения и занимал в нем любое место, от чистейшего избранника Света до осла, влекущего вязанку дров в столовую Хирбе-Кумрана.
Все изменилось в одно мгновение. Мне было тогда десять лет, стояло раннее утро весеннего месяца ияр, и сквозь перекошенные жалюзи в наш домик струились желтые полосы солнечного света. Отец уже ушел на работу, мать, проводив его, прилегла отдохнуть. Обычно мы с ней засыпали поздно, ведь в нашем мире каждый вечер происходило множество событий, требующих обсуждения. Отец поднимался засветло, до места работы ему приходилось добираться довольно долго. Конечно, мы могли поселиться ближе, как поступали другие наемные работники, но тогда пришлось бы жить среди нечестивых сынов Тьмы. Опуститься до такого мои родители не могли.
Закрыв за отцом дверь, мать ложилась вздремнуть на полтора-два часа, пока лучи света не начинали щекотать ее лицо. Иногда я просыпался раньше и тихонько любовался спящей. Она была красива, насколько может быть красиво земное существо. Черты материнского лица казались преисполненными совершенства и доброты, оно нежно светилось в утреннем сумраке, наполнявшем наш домик. Иногда мне казалось, будто лучи не падают на высокий лоб, а исходят из него.
Приподнявшись на локте левой руки, я рассматривал мать, наблюдая, как желтое пятно света на подушке потихоньку подбирается к ее щеке, и вдруг услышал шуршание. По земляному полу извивалось черное тело гадюки. Змея спешила к материнской руке, свисающей с кровати. Синие жилки на запястье вздрагивали в такт биению сердца, и гадюка, устремив холодный взгляд на эти жилки, стремительно приближалась.
Змеи были частыми гостями в нашем доме: когда живешь на окраине, неподалеку от полей и пустошей, нужно быть готовым к посетителям такого рода. Наша кошка, полосатая Шунра, ловко расправлялась с ними, но в то утро ее почему-то не оказалось в доме. До запястья матери оставалось меньше локтя, когда я, сам не понимая, что делаю, вытянул правую руку и, схватив двумя пальцами голову змеи, прижал к полу.
Змея забилась, пытаясь высвободиться. Холодное склизкое тело металось по полу, то свиваясь в кольцо, то с силой распрямляясь, но я крепко прижимал ее голову к земле.
От шума мать пробудилась. Быстро сообразив, что происходит, она вскочила с кровати, схватила топорик для рубки дров, стоявший у стенки, и одним ударом рассекла змею на две части.
И вот только тогда я увидел, что мои пальцы, судорожно вытянутые, напряженные пальцы, находятся перед моим лицом, далеко от змеиной головы. Но ведь я ощущал подушечками холод ее скользкой чешуи, чувствовал дрожь разрубленного надвое тела! Что ошибалось – зрение или чувство? Но кто, кто продолжал прижимать к земле змеиную голову с раскрытой пастью, из которой неуловимыми для глаза движениями выскакивал узкий раздвоенный язык? Отрубленная половина туловища танцевала на полу страшный танец, разбрасывая в разные стороны струйки крови и слизи.
Мать расценила мою дрожь по-своему и бросилась ко мне с криком ужаса. Она решила, будто я содрогаюсь в конвульсиях после укуса. Чтобы успокоить ее, мне пришлось отпустить голову змеи, и теперь на полу перед кроватью извивались обе половины.
Я долго не мог объяснить матери, что произошло. Я сам плохо понимал случившееся. Мать разобралась быстрее меня. Взяв мою голову в ладони, она крепко поцеловала в макушку, и я вдруг почувствовал ее горячие слезы.
– Скоро мы расстанемся, сынок, – забормотала она, прижимая меня к себе. – А когда увидимся, я уже не смогу к тебе прикоснуться.
– Но почему мы должны расставаться, мама?
– Ты избранный. А может быть, даже больше, чем избранный. Если мы расскажем о случившемся отцу, он тут же отвезет тебя в Хирбе-Кумран, к Наставнику.
– Так давай не будем рассказывать, – предложил я.
Вместо ответа она еще крепче сжала меня в своих объятиях.
Любовь к сыну и материнская гордость сражались в ее сердце, словно два дракона. Поначалу казалось, будто любовь победила, и утреннее происшествие со змеей осталось нашим с ней секретом. Но время шло, и я видел, что матери становится все труднее и труднее носить в себе эту тайну.
Она колебалась около года, и за это время во мне произошли большие изменения, которые я постарался от нее скрыть. Если бы мать узнала о них, любовь отступила бы перед гордостью, что неминуемо повлекло бы к моей немедленной разлуке с домом, а переселяться в Хирбе-Кумран мне совсем не хотелось.
Мать тоже не теряла времени даром. Ее вечерние рассказы резко изменили направление. Главное место в них занял Учитель Праведности и его последователи – Наставники из Хирбе-Кумрана. Раз за разом мы погружались с ней в события сташестидесятилетней давности, возвращаясь к временам Откровения. Всю энергию воображения, весь свой талант рассказчицы мать обратила на историю детей Света, и суровый мир избранных мало-помалу перестал казаться мне черно-белым и холодным.
Известно, что Учитель Праведности открылся еще при язычнике Антиохе Эпифане. Двадцать лет избранные блуждали во тьме, наощупь, будто слепые, отыскивая дорогу, пока Бог не воздвиг им Учителя.
– Нечестие в те годы полностью овладело царями из рода Хашмонеев, – рассказывала мать, – и Храм Иерусалимский погрузился в скверну. Должность главного священника стали приобретать за деньги, и царь назначал того, кто больше заплатит. Сын Тьмы, заплатив солидную сумму за назначение, служил меньше года и погибал.
В День Очищения, когда первосвященник, облаченный в восемь священных одежд, держа в руках совок с углями и чашу с пряностями, заходил в Святая Святых, его настигала кара Господня. Ведь для того, чтобы выполнить самое таинственное действие из всех храмовых работ – воскурение пряностей, первосвященник должен был находиться на особом уровне чистоты и святости. Не успевал сын Тьмы сделать и трех шагов по Святая Святых, как его сердце разрывалось на мелкие части.
Мать доставала из кармана несколько травинок и рвала их на кусочки, как бы показывая мне, что происходило с сердцем первосвященника.
– При нечестивых царях, – продолжала она шепотом, – возник новый обычай: к ноге первосвященника, входившего в Святая Святых, привязывали веревку. Служители, оставшиеся перед завесой, прикрывавшей вход, напряженно прислушивались. Услышав глухой звук падения тела на каменные плиты пола, они немедленно принимались тянуть за веревку. Ведь нет большего кощунства, чем труп в Святая Святых! Не успевал грешный первосвященник испустить дух, как он уже оказывался снаружи.
Мать тянула руками невидимую веревку, и я помогал ей, тихонько шевеля пальцами. Затем она замирала и долго смотрела на пол, словно разглядывая лежавшего там сына Тьмы в роскошных одеждах первосвященника и с сердцем, разорванным ангелом на мелкие кусочки.
– И вот, посреди тьмы нечестия и скверны неверия, – еле слышно начинала мать, – засиял факел надежды. Всевышний выбрал достойнейшего из людей и открыл ему тайны, неизвестные даже пророкам. Ведомые сердцем, подчиняясь зову, собрались избранные возле Учителя Праведности и вместе с ним сошли в Дамаск.
– А почему в Дамаск, мама?
– Подальше от нечестивых, сынок.
– А разве в Дамаске нет нечестивых?
– В Дамаске язычники, такие же, как в Греции или Риме. А нечестивые – это народ Завета, превратившийся в сынов Тьмы. Язычники подобны деревьям или камням, они могут ударить, могут даже убить, то есть повредить тело, но душу, бессмертную душу, не способны испачкать.
Так вот, Учитель Праведности обновил союз с Богом и научил своих последователей ходить чистыми путями, избегать скверны и видеть будущее. Он обучил их способам врачевания и приемам защиты, и наказал сохранять в тайне его учение, поэтому до сих пор его ученики идут тремя путями: путем Терапевта, путем Воина и путем Книжника, хранителя книг. Оттого называют нас ессеями, то есть благочестивыми, от слова «хасайя» на арамейском. А есть такие, что утверждают, будто название это происходит от слова «аса» – исцелять, также на арамейском.
Тут мать вспоминала своих братьев и пускалась в многокрасочные повествования об их славных делах. Я слушал, восхищался, запоминал, и в душе моей потихоньку зрел поворот, которого мать хотела добиться своими рассказами.






