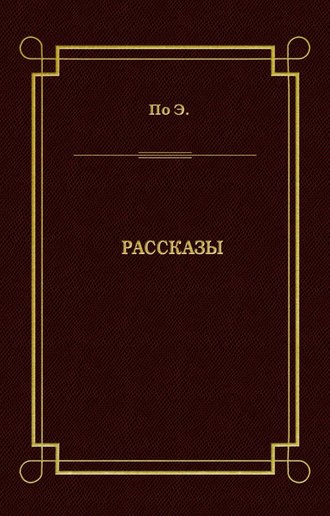
Эдгар Аллан По
Рассказы
Береника
Dicebant mihi sociales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.
Ebn Zaiat[2]
Несчастье многообразно. Земное горе является в видах бесчисленных. Обнимая обширный горизонт, подобно радуге, блещет оно столь же разнообразными, столь же яркими, столь же ослепительными красками! Обнимая обширный горизонт, подобно радуге! Как мог я красоту сделать мерой безобразия, знаменье мира – подобием скорби! Но как в области нравственной зло является следствием добра, так из радости родится скорбь. Скорбь настоящего дня – или воспоминание о минувшем блаженстве, или мука смертная, рожденная восторгом, который мог быть.
Я хочу рассказать повесть, полную ужаса; я охотно скрыл бы ее вовсе, если бы не была она летописью не столько дел, сколько чувств.
Я крещен Эгеем, а об имени рода своего умолчу. Но в нашей местности нет здания древнее моего угрюмого, серого родового замка. Издревле наш род слыл родом ясновидящих; и многие особенности в замке, в стенной живописи главной залы, в занавесах спален, в резных украшениях оружейной, а главное, в галерее старинных картин, в устройстве книгохранилища и подборе книг – оправдывали эту славу.
Воспоминания моего раннего детства связаны с этой комнатой и с ее томами, о которых я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь я родился. Но и говорить нечего, что я жил раньше, что душа уже существовала в другой оболочке. Вы отрицаете это? Не буду спорить. Веря сам, я не стараюсь уверить других. Но есть воспоминание о воздушных формах, о неземных и глубоких очах, о певучих грустных звуках – воспоминание неизгладимое, изменчивое, непостоянное, смутное и зыбкое, как тень.
И как тень – оно со мной не расстанется, пока будет светить солнце моего разума.
В этой комнате я родился. Неудивительно, что, пробудившись после долгой ночи, расставшись с сумраком того, что казалось небытием, и вступив в волшебное царство светлых видений, в чертог воображения, в суровые владения отшельнической мысли и учености, я глядел вокруг себя глазами изумленными и жадными, проводил детство за книгами, а юношеские годы в мечтах. Но то удивительно, что с годами, когда расцвет мужества застал меня в замке предков моих, источники жизни моей точно иссякли, и полный переворот произошел в природе моего мышления. Явления существенного мира действовали на меня, как призраки и только как призраки, а дикие грезы воображения сделались не только содержанием моей повседневной жизни, но и самой этой жизнью, в ее существе.
Береника была моей двоюродной сестрой, и мы росли вместе в отеческом доме. Но росли не одинаково: я – болезненный и погруженный в меланхолию; она – веселая, легкая, полная избытком жизни. Ей – блуждания по холмам, мне – труды в монашеской келье. Я – поглощенный жизнью сердца своего, душой и телом прикованный к упорным и тягостным помыслам; она – беспечно отдающаяся жизни, не заботясь о тенях на пути своем, о безмолвном полете крылатых часов. Береника! – я произношу имя ее – Береника! – и при этом звуке из серых развалин памяти возникает смутный рой видений! Образ ее восстает предо мною так же ясно, как в былые дни ее безоблачного счастья. О, величавая и сказочная прелесть! О, сильфы[3] Арнгеймских[4] рощ! О, наяда тех ручьев! А потом, потом – всё тайна и ужас, повесть, которая не хочет быть рассказанной. Болезнь, роковая болезнь, настигла ее как смерч; на глазах у меня дух перемены веял над нею, захватывая ум ее, привычки, движения и разрушая, неуловимо и ужасно, самое тождество личности ее! Увы! разрушитель приходил, уходил! а жертва, что с ней сталось? Я не узнавал ее, или, по крайней мере, не узнавал в ней Беренику!
В длинной веренице болезней, следовавших за этим роковым и первоначальным недугом, так страшно изменившим телесно и духовно двоюродную сестру мою, заслуживает упоминания одна, самая плачевная и упорная: род падучей, нередко приводившей к столбняку, очень близко напоминавшему подлинную смерть, за которым следовало пробуждение, большей частью внезапное. Тем временем моя собственная болезнь еще быстрее развивалась и наконец приняла характер новой и необычайной мономании, усилившейся не по дням, а по часам – и получившей надо мной непонятную власть. Эта мономания – если можно так назвать ее – состояла в болезненной раздражительности тех свойств духа, которые в метафизике называются вниманием. По всей вероятности, меня не поймут; и я боюсь, что мне так и не удастся сообщить обыкновенному читателю точное представление о той болезненной напряженности внимания, с которой мои умственные способности (избегая языка научного) увлекались и поглощались созерцанием самых обыкновенных явлений внешнего мира. Размышлять по целым часам над какой-нибудь вздорной фигурой или особенностью шрифта в книге; проводить лучшую часть летнего дня в созерцании причудливой тени на обоях или на полу; следить целую ночь, не спуская глаз, за пламенем лампы или искрами в камине; грезить по целым дням над благоуханием цветка; повторять какое-нибудь самое обыкновенное слово, пока, от частого повторения, оно не перестанет вызывать какую бы то ни было мысль в уме; утрачивать всякое сознание движения или физического существования в совершенном телесном покое, упорном и длительном, – вот некоторые из самых обыкновенных и наименее губительных причуд, вызванных этим состоянием души, быть может, не беспримерным, но, во всяком случае, недоступным исследованию или объяснению. Сделаю, однако, оговорку во избежание недоразумений. Это бесцельное, пристальнейшее и мучительнейшее внимание, возбуждаемое ничтожными предметами, не следует смешивать со способностью забываться в размышлениях, свойственной всем вообще людям, а в особенности тем, кто одарен воображением пламенным. Оно не было, как может казаться с первого взгляда, крайним проявлением той же способности; оно существенно и в самой основе отличалось от нее. Мечтатель или энтузиаст, увлекшись каким-нибудь предметом, большею частью не ничтожным, незаметно теряет его из виду в вихре мыслей и выводов, и в конце этого сна наяву, часто исполненного роскошных видений, убеждается, что incitamentum, или первая причина его размышлений, совершенно забыта и стерта. Мое же внимание всегда привлекал ничтожный предмет, правда, принимавший неестественные размеры в моих болезненных мечтах. Я не делал никаких выводов или делал очень немногие – и они упорно вращались около первоначального предмета. Мысли мои никогда не были отрадными, и при конце моих грез первая причина не только не исчезала, но приобретала неестественное значение, представлявшее главную отличительную черту болезни моей. Словом, у меня действовала главным образом сила внимания, а не способность умозрительная, как у мечтателя.
Мое тогдашнее чтение если не усиливало недуг, то, во всяком случае, своей фантастичностью и непоследовательностью соответствовало этому недугу. Припоминаю, в числе других книг, трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона[5] «De Amplitudine Beati Regni Dei»[6]; великое творение блаж. Августина[7] «О государстве Божием» и Тертуллиана[8] «De Carne Christi»[9], парадоксальное изречение которого: «Mortuus est Dеi filius; сrеbidilе еst, quiа inерtum еst; еt sерultus rеsurrехit; сеrtum еst quiа imроssibilе еst»[10] – стоило мне многих недель упорного, но бесплодного размышления.
Таким образом, рассудок мой, равновесие которого постоянно нарушалось самыми пустыми вещами, стал походить на утес, описанный Птоломеем Гефестионом[11], утес, который упорно противостоит человеческому насилию и еще более свирепому бешенству волн и ветра и дрожит только от прикосновения цветка, называемого златоцвет[12]. И хотя поверхностный человек может подумать, что изменения, порожденные болезнью в духовном существе Береники, часто служили предметом для той болезненной и упорной мечтательности, чью природу я старался уяснить, – но в действительности этого не было. Правда, в минуты просветления, во время перерывов моей болезни, несчастие ее мучило меня, и, принимая глубоко к сердцу гибель этой светлой и прекрасной жизни, я часто и горько размышлял над причинами такой странной и внезапной перемены. Но мысли эти не имели ничего общего с болезнью моей и ничем не отличались от мыслей, которые явились бы у всякого при подобных обстоятельствах. Сообразно своей природе, моя болезненная мечтательность останавливалась на менее важных, но более разительных телесных изменениях, которыми сопровождалась болезнь Береники.
В дни расцвета ее несравненной прелести я, без сомнения, не был влюблен в нее. По болезненной странности моей природы, чувства мои никогда не были чувствами сердца, и страсти мои всегда были отвлеченными. В полусвете раннего утра, в причудливых тенях леса, в тиши моей библиотеки она реяла перед моими глазами, и я видел ее – не живую, дышащую Беренику, а Беренику-тень; не земное, плотское существо, а отвлеченность этого существа; предмет не восхищения, а исследования; не любви, а сложных и бессвязных помыслов. Ныне же, ныне я дрожал в ее присутствии и бледнел от близости ее; и, горько сокрушаясь о смертельном недуге ее, вспоминал, что она любила меня давно и что в недобрый час я предложил ей руку.
Приближался день нашей свадьбы, когда однажды зимою, под вечер, в один из тех необычайно теплых, тихих и туманных дней, которые называются кормилицами прекрасной Альционы[13], я сидел (и сидел, кажется, один) в библиотеке. Но, подняв глаза, увидел пред собою Беренику.
Расстроенное ли воображение мое, или туманный воздух, или обманчивый полусвет сумерек, или серая одежда, ниспадавшая вокруг ее тела, придавали ей такие неясные, зыбкие очертания.
Она молчала, а я… я не мог бы выговорить слова ни за что в мире. Леденящий холод пробежал по телу моему; чувство невыносимой тревоги томило меня; пожирающее любопыт ство переполнило душу мою; и, откинувшись на спинку стула, я несколько времени сидел, не шевелясь, затаив дыхание и не спуская глаз с Береники. Увы, как она исхудала, никаких следов прежнего существа не оставалось хотя бы в одной черте ее облика. Наконец, мои пламенные взоры остановились на ее лице.
Лоб был высокий, бледный и необычайно ясный; прядь волос, когда-то черных, свешивалась над ним, бросая тень на впалые виски, с бесчисленными мелкими локонами, теперь ярко-желтыми и представлявшими своей странностью резкую противоположность печальному выражению лица. Глаза без жизни, без блеска казались лишенными зрачков, и я невольно перевел взгляд на тонкие, искривленные губы. Они разомкнулись; и зубы изменившейся Береники медленно выступили передо мною в улыбке загадочной. Лучше бы мне никогда не видать их или, увидев, умереть!
Звук затворившейся двери заставил меня встрепенуться, и, оглянувшись, я увидел, что моя кузина оставила комнату. Но беспорядочную комнату ума моего не оставил, увы! и не мог быть изгнан из нее бледный и зловещий призрак зубов. Ни единого пятнышка на их поверхности, ни одной тени на эмали, ни одной зазубринки на краях – все это запечатлелось в памяти моей в короткий промежуток улыбки ее. Я видел их теперь даже отчетливее, чем тогда. Зубы! зубы! Они были здесь, и там, и всюду предо мною; длинные, узкие, необычайно белые, окаймленные линией губ, как в ужасный миг появления. Безумье мое превратилось в бешенство, и тщетно боролся я со странным и неодолимым действием его. В бесчисленных предметах внешнего мира я видел только зубы. По ним я тосковал безумно. Все другие явления, все другие чувства исчезли в этом вечном созерцании зубов. Они… они одни носились перед моими духовными очами; на них сосредоточилась вся моя духовная жизнь. Их видел я при всевозможных освещениях, во всевозможных сочетаниях. Я определял их свойства. Различал особенности. Размышлял об их строении. Думал об изменениях в природе их. Содрогался, приписывая им в воображении способность чувствовать. О мадемуазель Салль[14] говорили, que tous ses pas etaient des sentiment[15], а о Беренике я серьезно думал, que tous ses dents etaient des idees. Des idees![16] А, так вот сумасшедшая мысль, смутившая меня! Des idees, – а, так вот почему я безумно стремился к ним! Я чувствовал, что только обладание ими могло вернуть мне покой, восстановить мой рассудок.
Так кончился для меня вечер, и наступила тьма и рассеялась; и вновь забрезжил день, и тень следующей ночи сгущалась вокруг, а я все еще сидел недвижно в моей одинокой келье, все еще сидел, погруженный в думы, и призрак зубов по-прежнему реял надо мной с изумительной и отвратительной ясностью. Наконец, крик ужаса и отчаяния прервал мою грезу; за ним последовал гул тревожных голосов вперемежку с тихими стонами скорби или боли. Я встал и, отворив дверь, увидел в соседней комнате девушку-служанку, которая со слезами сообщила мне, что Береника скончалась! Припадок эпилепсии случился рано утром, а теперь, с наступлением ночи, гроб уже готов был принять жильца своего, и все приготовления к погребению были сделаны.
Я сидел в библиотеке, и по-прежнему сидел в ней один. Казалось, что я только что очнулся от смутного и страшного сна. Я знал, что теперь была полночь и что с закатом солнца Беренику похоронили. Но о коротком промежутке времени между этими двумя мгновениями я не имел ясного представления. А между тем в памяти моей хранилось что-то ужасное, – вдвойне ужасное по своей неясности, вдвойне страшное по своей двусмысленности. То была безобразная страница в летописи моего существования, исписанная тусклыми, отвратительными и непонятными воспоминаниями. Я старался разобрать их – напрасно; в ушах моих, точно отголосок прекратившегося звука, без умолку раздавался резкий и пронзительный крик женщины. Я сделал что-то, но что я сделал? Я громко задавал себе этот вопрос, и эхо комнаты шепотом отвечало мне! Что я сделал?
На столе передо мной горела лампа, а подле нее лежал маленький ящик. В нем не было ничего особенного, и я часто видал его раньше, так как он принадлежал нашему домашнему врачу; но как он попал сюда, на мой стол и почему я дрожал, глядя на него? Все это оставалось для меня необъяснимым. Случайно мой взгляд упал на развернутую книгу и остановился на подчеркнутой фразе. То были странные, но простые слова поэта Эбн Зайата: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore lecatas». Почему же, когда я прочел их, волосы поднялись дыбом на моей голове и кровь застыла в жилах?
Кто-то тихонько постучал в дверь, и вошел слуга, бледный, как жилец могилы. Взор его помутился от ужаса, он что-то говорил дрожащим, тихим голосом. Что сказал он? Я слышал отрывочные слова. Он говорил о диких криках, возмутивших тишину ночи, о собравшейся дворне, о поисках в направлении, откуда раздался крик; и голос его стал пронзительно ясен, когда он шептал об оскверненной могиле, об обезображенном теле, еще дышащем, еще трепещущем, еще живом.
Он указывал на мое платье; оно было в грязи и в крови. Я ничего не отвечал, и он тихонько взял меня за руку: на ней были следы человеческих ногтей. Он указал мне на какой-то предмет, стоявший у стены; я взглянул, это был заступ! Я с криком кинулся к столу и схватил ящичек. Но я не мог открыть его; он выскользнул из рук моих, упал, разбился на куски, и из него со звоном выкатились инструменты зубного врача и тридцать два маленьких, белых, точно из слоновой кости, предмета, рассыпавшиеся по полу.
Лигейя
Тут воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и ее силу? Сам Бог – великая всепроникающая воля. Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость его воли!
Джозеф Гленвилл[17]
Клянусь душою, я не могу припомнить, как, когда, ни даже где я впервые познакомился с леди Лигейей. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от перенесенных мною страданий. Или, быть может, я потому не могу теперь вспомнить этого, что характер моей возлюбленной, ее редкие познания, ее особенная и ясная красота, упоительное красноречие ее сладкозвучного голоса так упорно и нечувствительно закрадывались в мое сердце, что я сам того не замечал и не сознавал. Но, кажется, впервые я встретил ее и часто потом встречал в каком-то большом, старинном, ветшающем городе на Рейне.
Она, конечно, говорила мне о своей семье. Древность ее происхождения не подлежит сомнению. Лигейя!
Лигейя! Погруженный в занятия, которые по самой природе своей как нельзя более способны заглушить все впечатления внешнего мира, я одним этим словом – Лигейя – вызываю перед моими глазами образ той, которой уже нет. И теперь, когда я пишу, у меня вспыхивает воспоминание о том, что я никогда не знал родового имени той, которая была моим другом и невестой, участницей моих занятий и, наконец, моей возлюбленной женой. Было ли то прихотью моей Лигейи или доказательством силы моей страсти, не интересовавшейся этим вопросом? Или, наконец, моим собственным капризом, романтическим жертвоприношением на алтарь страстного обожания? Я лишь смутно припоминаю самый факт, мудрено ли, что я забыл, какие обстоятельства породили или сопровождали его? И если правда, что дух, называемый Возвышенным, если правда, что бледная, с туманными крылами, Аштофет языческого Египта председательствовала на свадьбах, сопровождавшихся зловещими предзнаменованиями, то, без всякого сомнения, она председательствовала и на моей.
Есть, однако, нечто дорогое, относительно чего моя память не ошибается. Это наружность Лигейи. Она была высокого роста, стройна, а впоследствии даже несколько худощава. Тщетны были бы попытки описать ее величавую осанку, спокойную вольность движений, неизъяснимую стройность и мягкость походки. Она являлась и исчезала как тень. Когда она входила в мой кабинет, я узнавал о ее появлении только по сладкой музыке нежного грудного голоса ее или по прикосновению к моему плечу мраморной руки ее. Прелестью лица никакая девушка не могла бы сравниться с нею. Это было лучезарное сновидение, рожденное опиумом; воздушное и возвышающее душу сновидение, исполненное более волшебной красоты, чем сказочные сны, реявшие над дремотными душами дочерей Делоса. Но черты лица ее не представляли той условной соразмерности, которой мы совершенно напрасно приучились восхищаться в древних изваяниях язычников. «Нет красоты изысканной, – говорит Бэкон, лорд Веруламский, в своих совершенно справедливых рассуждениях о различных видах и родах красоты, – без некоторой странности в пропорциях». Но хотя я видел, что черты Лигейи не представляют классической правильности, хотя я сознавал, что ее красота действительно «изысканная», и чувствовал, что в ней много «странного», однако я тщетно пытался найти эту неправильность и определить свое собственное представление о «странном». Я всматривался в очертания высокого бледного лба ее – он был безупречен; как холодно звучит это слово в применении к такому божественному величию! Кожа, не уступающая белизной чистейшей слоновой кости, величавая широта и безмятежность, легкие выступы над висками, и волосы, черные как вороново крыло, блестящие, рассыпавшиеся густыми, роскошными кольцами, к которым вполне подходил гомеровский эпитет «гиацинтовые»! Я всматривался в тонкие очертания носа ее – нигде, кроме изящных еврейских медальонов, не видал я такого совершенства. Та же изумительно гладкая поверхность, тот же едва заметный намек на орлиный профиль, те же гармонически изогнутые ноздри – признак свободы духа. Я вглядывался в нежный рот ее. Вот где было истинное торжество небесной прелести – в великолепном изгибе короткой верхней губы, в сладострастной дремоте нижней, в смеющихся ямочках, в игре красок, которая говорила без слов, в зубах, отражавших с почти нестерпимым блеском каждый луч света, падавший на них, когда они открывались в спокойной и ясной, но лучезарнейшей из всех улыбок. Я вглядывался в подбородок ее.
И здесь находил я эллинскую прелесть, нежность и величавость, полноту духовности, – тот облик, который бог Аполлон только во сне открыл Клеомену, сыну Клеоменову, афинянину. Наконец, устремлял я взор в глубину огромных глаз ее.
Для глаз не нахожу я образца и в глубочайшей древности. Может быть, в глазах моей возлюбленной и скрывалась тайна, на которую намекает лорд Веруламский. Кажется, они были гораздо больше обыкновенных глаз человеческих, с более совершенным разрезом, чем у газелей долин Нурджахада. Но только иногда, в минуты возбуждения крайнего, особенность эта становилась поразительной. В эти-то минуты красота ее – по крайней мере, в пламенном воображении моем – была красотою сказочных гурий. Зрачки черно-блестящие оттенялись агатовыми ресницами длиннейшими. Брови, слегка неправильного очерка, такого же черного цвета. Но «странность», которую я находил в глазах ее, таилась не в очертании, не в цвете, не в блеске, а только в выражении. О, слово бессмысленное! Звук пустой! Неопределенность, за которою прячется наше непонимание духовности. Выражение глаз ее! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Сколько летних ночей провел без сна, стараясь измерить их глубину. Что же такое, более глубокое, чем колодец Демокрита, таилось в глазах моей возлюбленной? Что это? Я томился желанием разгадать эту тайну. Глаза ее! Эти огромные, сияющие, божественные зрачки! Они сделались для меня близнецами созвездия Леды, а я для них – звездочетом набожным.
Среди многих непонятнейших странностей в науке о духе нет более непонятной, более захватывающей, чем то, что, кажется, еще не отмечено школьным знанием, что, стараясь вспомнить что-либо давно забытое, мы часто находимся на самом краю воспоминания и все-таки не можем вспомнить. Так и я: сколько раз, в упорных усилиях мысли, я чувствовал, что вот-вот откроется мне тайна глаз ее, вот-вот откроется, но не открывалась и, наконец, совсем закрылась! И (странная, о, самая странная из тайн!) нередко я находил в обыкновеннейших явлениях сходство с этими глазами. Я хочу сказать, что после того, как прелесть Лигейи проникла в душу мою и воцарилась в ней, как в святилище, многие явления мира величественного вызывали во мне то же чувство, которое я всегда испытывал при виде ее широких, светлых зрачков. И тем не менее я не могу определить это чувство, или понять его, или исследовать. Но я испытывал его, глядя на быстро растущую виноградную лозу, на бабочку, на мотылька, на куколку, на струи водопада. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Во взглядах людей, достигших глубочайшей старости. Также одна или две звезды (особенно одна, шестой величины, двойная и переменная, близ большой звезды в созвездии Лиры) пробуждали во мне то же чувство, когда я рассматривал их в телескоп. Оно охватывало меня при известном сочетании звуков струнных инструментов и при чтении книг. Среди бесчисленных примеров помню одно место в книге Джозефа Гленвилла, которое (быть может, вследствие странности своей) всегда вызывало во мне это чувство: «Тут – воля, которая не умирает. Кто познал тайны воли и силу ее? Сам Бог есть великая всепроникающая воля. Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его».
Годы раздумий дали мне возможность установить отдаленную связь между этим замечанием английского мыслителя и некоторыми свойствами Лигейи. Может быть, напряженность мыслей ее, действий, слов была следствием или, по крайней мере, свидетельством той исполинской воли, которая во время наших долгих отношений не успела проявиться в чем-нибудь более действительном. Из всех женщин, которых я знал, она, Лигейя, такая спокойная, невозмутимая, была добычей самых безжалостных коршунов самой лютой страсти. Но силу этой страсти я мог измерить только по чудесному расширению глаз ее, пугавших и восхищавших меня, по небесной музыке, ясности, тихости глубокого голоса ее и по дикой силе странных слов, еще удвоенной противоречием с тихостью голоса.
Я упомянул о познаниях Лигейи; они были огромны, и таких я никогда не встречал в женщине. Она в совершенстве изучила древние языки, и я никогда не мог заметить у нее пробелов по части языков современных, насколько я сам с ними знаком. Да и в какой отрасли знаний, даже самых сложных и потому наиболее уважаемых школьной ученостью, замечал я пробелы у Лигейи? Как странно, как поражающе действовала на меня в последнее время именно эта черта в характере жены моей. Я сказал, что мне не случалось встречать женщину с такими познаниями, но где тот мужчина, который с успехом овладел всеми обширными сферами моральных, физических и математических знаний? Я не замечал в то время того, что вижу теперь ясно, – что познания Лигейи были огромны, изумительны; но чувствовал ее превосходство настолько, что подчинился с детской доверчивостью ее руководству в хаосе метафизических исследований, которыми усердно занимался в первые годы после нашей свадьбы. С каким торжеством, с каким жадным восторгом, с какой небесной надеждой я чувствовал – в то время, как она наклонялась надо мною при моих попытках проникнуть в область слишком мало затронутую, слишком мало исследованную, – что восхитительные дали мало-помалу открываются мне, что, устремившись по этому долгому, неизвестному пути, я достигну, наконец, высшей мудрости, слишком божественной, слишком драгоценной, чтобы не быть запретной!
И как язвительна была моя скорбь, когда, спустя несколько лет, увидел я, что мои надежды рассеялись. Без Лигейи я был ребенок, блуждающий во мраке ощупью. Только ее присутствие, ее толкование проливали свет жизни на тайны запредельных знаний, в которые мы углублялись. Не озаренная лучезарным блеском глаз ее, вся эта книжная мудрость, казавшаяся раньше светлой, как золото, становилась тусклой и тяжелой, как свинец. А глаза эти все реже и реже сияли над страницами, которые я изучал. Лигейя была больна. Странные глаза блестели слишком ярким блеском; в бледных пальцах была восковая прозрачность, цвет смерти, и голубые жилки на высоком лбу бились при малейшем волнении. Я видел, что она должна умереть, – и отчаянно боролся в душе с жестоким Азраилом. К моему удивлению, борьба ее была еще отчаянней. Сила духа ее позволяла мне надеяться, что смерть придет к ней без ужасов своих, но не то оказалось на деле. Слова не могут выразить, как свирепо боролась она с Тенью. Я стонал при виде этого жалкого зрелища. Пытался утешать, убеждать, но для ее неутолимого желания жить, жить – только жить – все утешения, все доводы разума были верхом безумия. И до последней минуты, в борениях и судорогах дикого духа ее, лицо ее сохраняло безмятежное спокойствие. Слова ее звучали все нежнее, все тише и тише, но я не смел задумываться над странным значением этих спокойно сказанных слов. Голова моя кружилась, когда я в восторге внимал этой сверхчеловеческой музыке, этим дерзновениям и чаяниям, которых никогда еще не ведали смертные.
В ее любви не сомневался я, а любовь такой женщины не могла быть обычной страстью. Но только смерть открыла мне всю бесконечность этой любви. Целыми часами, рука об руку, она изливала предо мной избыток сердца своего, полного страстью боготворящею. Чем заслужил я блаженство слушать такие признания? Чем заслужил я проклятие, отнимавшее у меня мою возлюбленную в минуту таких признаний? Но я не в силах говорить об этом. Скажу только, что в слишком женской страсти Лигейи – страсти мной незаслуженной, увы, дарованной мне, недостойному, – я усмотрел наконец причину ее безумного сожаления о жизни, убегавшей так быстро. Это дикое алкание, это лютое желание жизни – только жизни – я не в состоянии описать, не в силах выразить.
В глубокую полночь – в ночь ее кончины – она подозвала меня и велела прочесть стихи, сочиненные ею несколько дней назад. Я прочел. Вот они:
«Вот он! Последний праздник! Толпа крылатых ангелов в трауре, в слезах, собралась в театр, посмотреть на игру надежд и страха, меж тем как оркестр исполняет музыку сфер.
Скоморохи, носящие образ вышнего Бога, ворчат и бормочут, снуют туда и сюда; это простые куклы, они приходят и уходят по повелению безликих существ, что реют над сценой, разливая со своих орлиных крыльев невидимое горе.
Жалкая драма! О, будь уверен, она не забудется! За ее призраком вечно будет гнаться толпа, никогда не овладевая им, в безвыходном кругу, который вечно возвращается на старое место; и много безумия, и еще более греха и ужаса в этой трагедии.
Но взгляни, в толпу гаеров крадется что-то ползучее, что-то красное, – извивается, корчится, грызет и пожирает гаеров, – и серафимы рыдают, видя, как червь упивается человеческою кровью.
Гаснут… гаснут… гаснут… огни! И на дрожащие образы падает занавес, погребальный саван, и ангелы встают, бледные, истомленные, и говорят, что зрелище это – трагедия “Человек”, а герой – “Победитель Червь”».
– Боже, – воскликнула Лигейя, вставая и поднимая руки с судорожным усилием. – Боже! Отец Небесный! Неужели это будет длиться вечно? Неужели червь победитель не будет побежден? Разве мы не часть Твоя? Кто, кто познал тайны воли и силу ее? Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его.
И как будто изнеможенная этим усилием, она опустила свои белые руки и торжественно вернулась на ложе смерти. И, когда она испускала последний вздох, он сливался с тихим шепотом уст ее. Я наклонил к ним ухо и снова услышал слова Гленвилла: «Человек не уступил бы ангелам, ни самой смерти, если бы не слабость воли его».
Она умерла, а я, раздавленный горем, не мог выносить угрюмого одиночества в доме моем, в старом, разрушающемся городе на Рейне. У меня не было недостатка в том, что люди называют богатством. Лигейя принесла мне больше, гораздо больше, чем обыкновенно выпадает на долю смертных. После нескольких месяцев тоскливого и бесцельного шатания я купил аббатство в одном из самых диких и безлюдных уголков веселой Англии. Угрюмое и холодное величие здания, полудикий вид местности, мрачные легенды, связанные с тем и другим, согласовались с безотрадным чувством, загнавшим меня в эту глухую пустыню. Оставив в прежнем виде внешность этого ветхого здания, поросшего мхом и травами, я с ребяческим своенравием и, может быть, с тайной надеждою рассеять тоску свою принялся убирать внутренность дома с царственной роскошью. Я еще в детстве питал страсть к таким причудам, теперь она возродилась во мне, точно я поглупел от горя. Увы, я чувствую, какие ясные признаки начинающегося безумия можно было открыть в этих пышных и сказочных завесах, в торжественных египетских изваяниях, в причудливых карнизах и мебели, в нелепых узорах затканных золотом ковров! Я стал рабом опиума, и мои распоряжения и занятия приняли окраску грез моих. Но не стану говорить об этих безумствах. Скажу только о той комнате, куда в минуту затмения мыслей я привел от алтаря мою молодую жену – преемницу незабвенной Лигейи, – золотокудрую и голубоглазую леди Ровену Тревенион Тремен.







