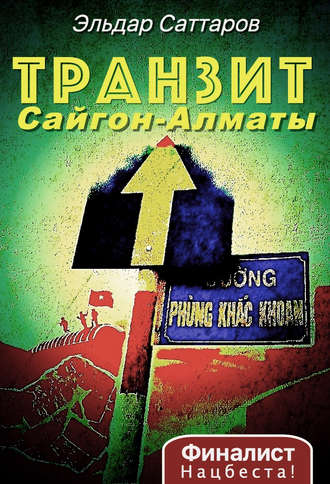
Эльдар Саттаров
Транзит Сайгон – Алматы
ТРАНЗИТ САЙГОН-АЛМАТЫ
«Вот джунгли расступились перед нами,
А в небе показался вертолёт.
Мы знали – эта чёрная машина
Несёт на нас морской пехоты взвод…
Восток! Восток! Я «Гранит-четыре», вызываю огонь на себя!
Ответите за Кубу, Гренаду и Анголу, а я вам отвечу за Вьетнам!»
(песня «Восток! Восток!» группы «Жантик-бэнд»,
слова Жантемира Баймухамедова (с) Алматы 2011)
Все события, описанные в данном романе являются плодом либо творческой фантазии, либо художественного преломления и не претендуют на достоверность.
Иллюстрации Андреа Рокка
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Пролог …………………………………………………………………. 2
Часть I. Революция …………………………………………………… 4
Часть II. Война ………………………..………………………………. 44
Часть III. Вёсны и осени ……………………………………………… 90
Эпилог ………………………………………………………………… 129
ПРОЛОГ
В нашей жизни встречаются люди, которые становятся нашими спутниками навсегда, потому что о них сложно забыть. После встречи с вьетнамцем Туаном, я понял, что знакомства с такими людьми, с которыми судьба порой сводит нас снова и снова на разных отрезках нашего пути и на разных витках развития общества, обладают неким глубоким символическим значением, приближающим нас к постижению неуловимой сути. Помимо дружбы, симпатии или привязанности, вызываемой в нас такими людьми, с течением времени всё более чётким становится осознание философской ценности таких встреч – ведь у каждого из таких, особенных людей своя, неповторимая история, бросающая свет на тот или иной, доселе скрытый, аспект бытия.
Этой весной я наведался в Алматы, чтобы повидаться с братом. Повод был очень радостным – вняв уговорам семьи, к которым я нередко добавлял свои веские, порой непечатные аргументы, он, наконец, решил закодироваться от хронического алкоголизма. Более того, буквально в течение нескольких месяцев после этого он завершил работу над magnum opus всей своей творческой биографии – симфонией «Радость жизни», над которой работал без малого четверть века. В тот мой приезд работа его была в самом разгаре. С утра я ездил по городу, занимался своими делами, встречал старых друзей. По вечерам мы прогуливались с моим братом, Булатом, по его району. Обычно мы выходили из «Дома композиторов», переходили аллею, старательно перепрыгивая через мутные озёрца талой воды, и выходили на площадь Кунаева, где под раскидистыми елями собиралась тусовка, таких же «шалов», пенсионеров, как и мы сами.
В тот памятный вечер, когда мы подходили к насиженной скамеечке, там уже наблюдались новые лица. Такие же седые коренастые «агашки», как обычно, в одинаковых чёрных кепках, делились новостями, обсуждали погоду, рассказывали друг другу анекдоты и от души хохотали. Булат представил их мне: Маке, «мой коллега по литературному цеху» из дома Союза писателей напротив, Серый, «ветеран конторы, в которой бывших не бывает», и, наконец, «Туан Иваныч – наш земляк из дальних краёв». Последним персонажем оказался пожилой, очень смуглый мужчина, чьи глаза с мелькнувшим в них характерным задорным огоньком показались мне до боли знакомыми.
–
А Вы не в Плешке учились? – осторожно поинтересовался я.
–
Да-да, Малик – это я, – широко улыбнувшись ответил Туан. – Не забыл ещё Стромынку?
Как же мне забыть? На меня нахлынули воспоминания о субботнем вечере в Москве шестидесятых, когда мы, молодые студенты отчаянно выплясывали входивший в моду твист в танцзале общежития МГУ на Стромынке. Я был безумно, по уши, влюблён в однокурсницу Ядвигу из Кракова, и как раз в тот вечер, набравшись храбрости я, наконец, решился пригласить её на медленный танец. Это были головокружительные пять минут. Она так плавно двигалась, прижимаясь ко мне, что я был на седьмом небе от восторга. Ситуация начала стремительно портиться, когда я вышел покурить в перерыве между танцами. Казимир из Лодзи вышел на крыльцо сразу вслед за мной, и весьма агрессивно потребовал, чтобы я прошёл с ним во двор «для выяснения отношений по-мужски». Я согласился, и мы прошли с ним в длинный двор в форме буквы П между корпусами общежития. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что в этом же тёмном дворе обреталось ещё шестеро поляков из разных ВУЗов Москвы, явно разгорячённых парами распитого здесь же «Агдама». Они все обступили меня и наперебой зачастили что-то на польском, обильно пересыпая свою речь нецензурными выражениями. Мат у них похож на русский, так что я понял, по крайней мере, то, что все они крайне недовольны мной. Если Казимир был против моих авансов в сторону Ядвиги чисто из ревности, то эти шестеро явно были вообще против любых отношений между своей соотечественницей и советским парнем любой национальности. Тадеуш в запале, даже разбил об асфальт пустую бутылку из-под «Агдама» и начал пошатываясь приближаться ко мне, выставив перед собой короткую «розочку».
–
В чём у вас тут дело, ребята? – раздался знакомый голос с едва различимым мягким акцентом, и я немедленно почувствовал определённое облегчение.
Это Туан, мой сосед по комнате, заметил моё затянувшееся отсутствие, и вышел искать меня во двор, позвав на подмогу моего земляка Ерлана и Гришу, самбиста из Харькова.
–
Всё должно быть по честному, хлопцы – авторитетно заявил Гриша полякам, и они вынуждены были согласиться.
Студенты образовали круг, в который, скинув пиджаки и засучив рукава, вышли мы с Казимиром. Тот начал прыгать вокруг меня, пытаясь изобразить танец бабочки а-ля Мухаммед Али, под одобрительный ропот земляков, я же старался ни на минуту не упускать из вида его руки, сохраняя защитную стойку и постоянно поворачиваясь корпусом так, чтоб оставаться с ним лицом к лицу. Когда он всё-таки бросился в атаку, сделал он это чисто по-дилетантски, начав с правой и открывшись, пытаясь свалить меня ударом в челюсть. Здесь его и ждал мой коронный апперкот. Я уложил его одним ударом в подбородок – это был мой фирменный апперкот, благодаря которому с детства мой авторитет на «Майкудуке», в моём родном районе, всегда только рос и укреплялся.
После того вечера, Туан, с которым мы прожили бок о бок почти четыре года, бесследно исчез из моей жизни.
–
Так какими судьбами ты здесь оказался? – спросил его я.
–
А я здесь, дорогой, уже ровно пятьдесят лет живу.
–
Пятьдесят? – я посчитал в уме и понял, что ровно столько прошло после событий на Стромынке. – Так стало быть…
–
А ты разве забыл, что именно ты мне порекомендовал этот город?
–
Кажется, припоминаю, – сказал я. – Ты ведь за несколько дней до той вечеринки спрашивал меня, куда б тебе было лучше переехать, если бы ты остался в Союзе.
–
Точно, – кивнул он. – Как видишь, я к тебе прислушался.
–
Ни за что бы не подумал тогда, что ты говоришь всерьёз, – ответил я. – Ты же так мечтал снова уехать на Родину, повидать своих родителей.
Тебе это удалось?
–
Свою мать я успел застать в живых в девяносто втором, когда смог впервые с тех пор выехать во Вьетнам, – сказал Туан. – А отца я разыскал лишь в прошлом году, когда возил жену в Париж – в этом городе я разыскал его могилу, на кладбище Пантен.
Тут уже нашей беседой заинтересовались и остальные, особенно Маке:
–
А, в самом деле, Иваныч, расскажи нам, как же у тебя так всё получилось. Никому бы такого не пожелал – при живых родителях прожить всю жизнь вдали от них. Почему так произошло? Ведь не по-людски это как-то.
–
Боюсь это долгая история, друзья, – нехотя сказал Туан. – Не на один вечер.
–
Рассказывай, Туан, – попросил Булат. – Всё равно ведь каждый вечер здесь видимся.
–
Что ж, – тяжело вздохнул он. – Ещё на Родине, сколько помню, я с детства рос в чужой семье и видел родителей лишь изредка и по раздельности. В тринадцать лет я сбежал из дома в поисках своей матери. В разгаре была война. Мой город, Сайгон, был весь в дыму и огне.
Шёл дождь…
I часть
Революция
1.
Всё началось из-за дождя. Дело в том, что у нас в Сайгоне за год сменяется всего два сезона – сухой сезон и сезон дождей соответственно. Поэтому, когда у нас заряжают дожди, то это всерьёз и надолго. Ребёнком я мог часами глазеть в окно на заливаемый тропическим ливнем асфальт, на уличных торговок, терпеливо переносящих атаки хлёстко и часто строчивших с небес пунктирных нитей, сидя на корточках на тротуаре, прикрывая, свой нехитрый товар и самих себя, кто чем может – кто кусками материи, кто полиэтиленом, кто обрывками мешковины.
В сторону проспекта Катина устремлялись велорикши, привычно крутя педали своими натруженными ногами, перевозя элегантно одетых француженок с огромными зонтами и их кавалеров в щегольских тренчах в сторону увеселительных заведений городского центра или на католическую мессу в Нотр-Дам де Сайгон. Чаще всего я наблюдал за красивой сорокалетней женщиной в традиционном «ао-зае», наряде из белых брюк и длинного цветного платья с высокими разрезами до талии. Она приходила каждый вечер со стороны одного из тех ветхих домов, что до сих пор уживаются в нашем районе бок о бок с фешенебельными колониальными постройками а ля Осман. О ней говорили, что в прошлом она была дурной женщиной. Она спала с французскими мужчинами и богатыми китайцами из района Шолон, за деньги. Однажды, на Рождество она привычно вышла на заработки и наняла себе рикшу. Вдвоём они провели всю рождественскую ночь, разъезжая по улицам Сайгона в поисках клиентов. Но в ту ночь ей почему-то не везло, семейным мужчинам было явно не до неё, а всех блудливых гуляк заранее разобрали шустрые конкурентки, так что под конец ей было даже нечем рассчитаться с рикшей, ведь она хотела заплатить ему из денег, заработанных за свои невостребованные утехи. Что же касается рикши, то проведя до этого весь день в напрасном ожидании клиентов, он ухватился за эту проститутку, как за последний шанс заработать на угощение и нехитрые подарки для целой оравы полуголодных братишек и сестрёнок. Под утро, узнав, что он так и остался ни с чем, рикша остановился на набережной Сайгона, отвернулся в сторону реки, насупился и долго молчал. Потом он смачно сплюнул и, постепенно распаляясь, начал высказывать этой женщине всё, что наболело за долгие годы жизни впроголодь; всё, что лежало у него на душе. В его душераздирающих словах не было ненависти, но они были полны такой неизбывной горечи, такого опустошительного отчаяния, что всякому стало бы от них не по себе. Когда он резко обернулся, чтобы окатить её убийственным взглядом, он увидел, что женщина сжалась в комочек на сиденье и беззвучно рыдает. И тогда он взглянул на неё совсем другими глазами, и сердце его открылось новому, неведомому до тех пор чувству. Внезапно ему непреодолимо захотелось увести эту женщину с панели, чтобы заботиться о ней и сделать её счастливой.
С тех пор как они поженились, она каждый вечер выходит на один и тот же угол, и может стоять там и ждать часами. Ближе к ночи рикша приезжает на этот угол после рабочего дня, утомлённый, но странно довольный. Говорят, она стала очень верной женой.
Я привык так подолгу сидеть у окна и наблюдать за прохожими и жителями квартала, потому что однажды, глядя именно в это окно, я увидел, как к дому, в котором я жил, идёт мой отец. Он был в белоснежном костюме и белом канотье из кокосовой соломки с чёрной шёлковой лентой. Он шёл медленно, но решительно, слегка помахивая тростью и смотря прямо перед собой. Я уже слышал до этого, что он многого добился в Париже, стал успешным адвокатом и открыл там своё дело, приносившее ему свыше восьмидесяти тысяч франков годового дохода. Я помню, как потом они очень долго о чём-то говорили с дядей Намом на кухне, но, хотя под конец они начали говорить довольно громко, их слова всё равно тонули в шуме вентилятора и криках соседей, устроивших в своём дворике петушиные бои. Я различил только последнюю фразу, когда входил к ним. Я чётко помню, как дядя Нам не терпящим возражений тоном выкрикнул моему отцу: «Если я позволю тебе увезти Мишеля во Францию, красные из Вьетминя рано или поздно обязательно придут за мной, и тогда мне конец!». Мишель это я. Нас всех крестили по римско-католическому обряду и давали французские имена при рождении. Под «нами» я имею в виду состоятельную прослойку городских жителей из моего района, особенно католической конфессии. Их дети ходили во французские школы наравне с детьми из колонистских семей, прибывших из далёкой метрополии. Потом они, как правило, уезжали учиться в парижские университеты и зачастую так и оставались в столице. Как мой отец. Когда он увидел меня, он резко встал, подошёл ко мне, присел на корточки, взяв меня за обе руки, и долго с какой-то обречённой нежностью смотрел на меня. В его взгляде было что-то пугающее, и мне стало не по себе. Тогда он неловко погладил меня по щеке, всучил леденец, вскочил, нахлобучил своё канотье, подхватил трость и стремительно вышел на шумную и знойную улицу. Дверь захлопнулась за ним, и в доме опять стало тихо. Даже соседи уже угомонились. Я тогда не знал, что больше никогда его не увижу. Он же, я думаю, вполне хорошо это осознавал.
2.
Моя мать происходит из старинного землевладельческого рода, чья генеалогия восходит к героям поросших былью сказов о феодальных битвах между кланами Чанов и Нгуенов, поделившими между собой весь Индокитайский полуостров в Средневековье. На мою беду она выросла очень красивой девушкой, ярко блиставшей в высших кругах кошиншинского общества, не оставляя равнодушным ни одного из окружавших её мужчин, совершенно избаловавших её своим вниманием и льстивыми комплиментами. Нравы местной аристократии к тому времени уже совсем не отличались от придворных нравов метрополии времён Галантного века. Она оставила моего отца ради дяди Нама, точно так же как теперь она оставила дядю Нама ради видного революционера, одного из лидеров движения Вьетминь, с которым она теперь скрывалась в джунглях. Поэтому сейчас, в этот дождливый день я и торчу здесь у окна, совсем один, и никому нет до меня дела. В один из таких дождливых дней я сбегу к ней, в джунгли.
Сколько я себя помню, я всегда бредил джунглями. В моих представлениях они всегда были ближайшим синонимом буйства жизни – ведь там всё растёт очень густо, цветёт очень пышно, размножается очень быстро. Когда я впервые выбрался в джунгли, там всё так и оказалось! Бродя по лабиринту еле заметных тропинок, я оцарапал там ногу о куст, и рана не заживает до сих пор. Это была моя первая в жизни вылазка в джунгли. Они начинаются совсем недалеко от окраины города, сразу после тянущихся вдоль шоссе рисовых полей и тенистых каучуковых плантаций. Никто из взрослых не знает об этой моей вылазке. Сбежав со школьных занятий, я приехал туда из города утром на своём любимом велосипеде, с которым никогда не расставался в те дни. И всё утро я бродил среди густых зарослей в одиночестве, зачарованный, затаив дыхание.
Сегодня, когда мы шли из школы с Софи, моей названной сестрой, и старшеклассником Рене, её ухажёром, я рассказал им по секрету об этой своей вылазке. Рене отругал меня. Он сказал, что я мог попасть на минное поле, или под французскую пулю. «Нельзя туда соваться без партизанских проводников» , сказал он мне, «да и нечего тебе там делать, слишком мал ты ещё». Я ничего ему не ответил, но про себя подумал, что хоть я и мал, зато у меня хватило смелости выбраться туда самому. Рене парень серьёзный. Он уверен, что когда-нибудь станет партизанским командиром, а сам ещё ни разу в джунглях не был, боится. А я был. Там ощущался совершенно особый запах. Пахло победой. Победой жизни над смертью.
«Представь себе, что тебя бы там схватили и отвезли в Сюртэ», не унимался Рене. Представлять, честно говоря, неохота. «Если тебя забрали в Сюртэ, тебе капут», как любит говаривать дядя Нам, и он прав, тут уж ничего не попишешь. Когда человека привозят в известное жёлтое здание с наглухо закрытыми ставнями, что в паре кварталов от Нотр-Дам, его уже, как правило, больше никто никогда не видит. Такой человек после этого либо пропадает в тигровых клетках острова Пуло-Кондор, либо его просто убивают без суда и следствия там же, в застенках жёлтого здания с наглухо закрытыми ставнями. Отчаявшиеся родственники могут потом годами его искать, а им в ответ, пожимая плечами, твердят одно и то же: отпустили, мол, после допроса на все четыре стороны, а куда он направился это уж не наша забота.
Рене хочет стать партизанским командиром, мне же всегда хотелось стать таким как товарищ Ань. Многие из нас тогда хотели походить на товарища Аня. Это был однокурсник моего отца, который, изучая право в Париже, превратился за годы учёбы в убеждённого анархиста. Вместе со своим другом Тхе, ещё одним товарищем из французской компартии, Ай Куоком, по прозвищу Хошимин, и двумя старыми Фанами, парижскими интеллектуалами старой закалки, они в своё время поклялись стать Пятью драконами будущей вьетнамской революции. Потом Хошимина и Аня выслали из Франции за подрывную деятельность. Первый по поддельным документам уехал через Берлин в Москву – постигать революционную науку, чтобы со временем стать профессиональным вождём кадровой партии. Второй же отправился в долгие пешие странствия по Италии, откуда он и прибыл домой, в Сайгон, на палубе одного из торговых кораблей. Здесь он начал издавать либертарную газету «Надтреснутый колокол» на французском языке. Его друг Тхе остался в Париже и стал активистом Межколониального союза, боровшегося за права коренных жителей всех колоний Франции.
В первый раз я увидел товарища Аня в кинотеатре, в первом ряду на показе «Огней большого города» Шарло. Тогда это был длинноволосый денди с иголочки одетый по последней парижской моде. Позади него сидели два офицера французской морской пехоты, капитан и лейтенант. В какой-то момент лейтенант схватился за спинку его стула, сильно её потряс и громко сказал ему:
– Ты мешаешь мне смотреть, не видишь что ли?
На что Ань со своей рафинированной восточной учтивостью ответил:
– Я не привык, чтобы со мной разговаривали в подобном тоне. Если бы Вы попросили меня вежливо, я был бы только рад подвинуться, чтобы Вам лучше было видно экран.
– Ну так встань и подвинь свой чёртов стул.
Ань, помедлив, ответил вопросом:
– Ты всё-таки нарываешься на неприятности, морячок?
– Да плевать я хотел на тебя, умник узкоглазый…
Буквально в мгновение ока Ань вскочил на ноги и, с быстротой молнии подняв стул за ножки над собой, ей-богу, готовился обрушить его на череп лейтенанта, в испуге отпрянувшего от него и закрывшегося руками, когда другие зрители остановили его, крепко схватив за предплечья, и силком вывели из зала. Кинотеатр, кстати, был битком набит французами, а вьетнамских парней там была от силы дюжина, не считая нас, детей. Но Ань, похоже, вовсе не думал о том, что возможное побоище будет настолько неравным. Такой уж это был человек.
3.
Пока Анем владела ярость, он как бы не соображал, что делает. Внезапно он словно прозрел и увидел трясущееся лицо лейтенанта вскинутые в защитном жесте руки над головой, и понял, что его крепко держат другие кинозрители. Один обхватил его за торс со спины, другой держал за ножки стул, который он занёс над головой, сжав в стальной хватке, а третий стоял перед ним и ласково, но настойчиво уговаривал его успокоиться и выйти с ними из кинотеатра. Ярость схлынула, и Ань покорно дал себя увести.
Уже на улице, по дороге к ближайшему кафе он познакомился с ребятами. Это были матросы торгового флота и, представляясь, они назвали свои прозвища: Кузнец, Шланг и Стриж. Они были одеты в странные костюмы, состоявшие из широченных штанов и длинных пиджаков до колен с накладными плечами. Застенчиво посмеиваясь, они рассказали ему, что не так давно уже были в подобной передряге, но не здесь, а за океаном.
– Мы как раз посмотрели «Золотую лихорадку» Шарло, и только вышли из кинотеатра на Пико-Юнион, в самом центре Лос-Анджелеса, – повёл свой рассказ Стриж, бритый под расчёску паренёк небольшого роста, с тонкими, деликатными чертами лица.
Они расселись за низким столиком уличного кафе на бульваре Боннар, и Кузнец принёс каждому по пивной кружке, наполовину наполненной рисовым самогоном.
– Как вдруг нас окружила целая толпа пьяных американцев с других судов, стоявших в порту, – продолжил Стриж, кивком поблагодарив своего друга. – Они ни с того, ни с сего начали нас жестоко избивать, осыпая расистскими оскорблениями. Мы настолько опешили, что только и смогли, что присесть на корточки, закрывая головы и крича «Помогите! Мы ничего вам не сделали!». Но это их только раззадоривало, и они били и пинали нас дальше… Всё резко поменялось, когда прибежал Хайфонец. Он отходил в туалет.
– А кто такой Хайфонец? – поинтересовался Ань, задетый за живое их историей.
– Это наш друг. Мы уже несколько лет на одних и тех же кораблях вместе с ним ходим, – протяжно объяснил Шланг, долговязый юноша с беглыми вороватыми глазками и длинными, нервными пальцами картёжного шулера.
– А где же он сейчас? – спросил Ань.
– Как где, брат? Он в Хайфоне! Где ж ему ещё быть, – расхохотался Шланг, развеселив тем самым всю компанию.
– Так что произошло потом, когда прибежал Хайфонец? – снова спросил Ань.
– Всё изменилось, – серьёзно ответил Стриж. – Всё изменилось, и с тех пор всё было по другому… Хайфонец, когда увидел, что нас бьют, сразу побежал в нашу сторону, вклинился в толпу, и с ходу, косым коротким ударом в висок тыльной стороной кулака, повалил того, что смеясь как лошадь, собирался пнуть меня. Когда тот упал на землю, своих опрокинув стоявших сзади товарищей, Хайфонец так же быстро ударил второго, здоровенного детину, прямым ударом в солнечное сплетение, и, выведя из строя двоих, тут же начал стремительно отбиваться локтями и коленями от набежавших на него со всех сторон гринго. В эту минуту мы пережили настолько жгучий стыд перед Хайфонцем, что как по команде вскочили и начали вместе, дружно отбиваться от тех, что нападали на него. Завязалась упорная драка, и если сначала стало полегче, то уже через несколько минут, я понял, что снова слабею под градом ударов, сыпавшихся на мою голову буквально со всех сторон. Ведь их было не вдвое или втрое, а впятеро-вшестеро больше, чем нас, человек тридцать, не меньше! Но в этот момент в наш переулок с обеих сторон начали забегать, откуда ни возьмись взявшиеся мексиканские ребята с 38-й улицы и из Гавайских садов, и наше побоище сразу превратилось в настоящую кровавую баню для гринго. Теперь уже те в панике орали во всю глотку, призывая на помощь и умоляя о пощаде, плюясь кровью и зубами, но их били и били дальше. Большинство американцев просто легло на землю, чтобы показать, что не будут сопротивляться, но мексиканцы всё равно пинали их, да так ожесточённо, словно хотели, чтобы их родная мама потом не узнала. Я нашёл в толпе того типа, который ударил меня первым, он упал передо мной на колени и начал хватать меня за руки, пытаясь поцеловать их и твердя “Sorry, sorry”.
– И что ты сделал?
– Я сломал ему нос коленом, развернулся и ушёл, а когда я оглянулся, один из мексиканцев что-то кричал ему в лицо, схватив за шиворот и приставив к горлу опасную бритву. Как я говорил, всё изменилось с тех пор. В память об этом дне мы сшили себе такие же костюмы, как у тех мексиканских ребят и с гордостью носим их, когда мы на побывке… А тебе, брат, всё же надо спокойнее реагировать на провокационные слова. Это ведь просто сотрясение воздуха, не более того, оно ничего не значит на деле в этой жизни.
– Ты пойми, Стриж, я не могу сдержаться, когда со мной обращаются так эти люди. Это мой город, мой район, а кто такой этот лейтенант? Кто он такой? Я ничего не имею против того, что он сидит и смотрит кино в моём городе, но когда он ещё и оскорбляет местного только за то, что он местный – это уже чересчур, вам не кажется?
– Да разве ж это оскорбление, брат? – задумчиво промолвил Кузнец, огромный тяжеловес с руками, как кувалды. – Слышал бы ты, какими словами нас осыпали те американские матросы. А ведь они тоже были на своей земле, в своём городе. По твоей логике они имели право так с нами обращаться?
– Ну во-первых, это не их земля. Лос-Анджелес – это исконная часть Ацтлана, так что на своей земле там были скорее уж те мексиканские ребята из Гавайских садов. Это если не говорить об индейцах.
– Брат, а ты много всякого знаешь, – сказал Стриж, закуривая папироску «Житан». – Хотелось бы с тобой побольше пообщаться.
– Я тоже на это очень надеюсь, друзья, – с жаром сказал Ань. – Приходите ко мне на Шарнье 19. У нас с товарищами там небольшая типография и два-три раза в неделю по вечерам после работы мы собираем всех наших друзей, чтобы вместе обсудить то, что происходит в нашей стране и в мире, чтобы обменяться политическими мнениями.
– Мы наверное, придём, – Стриж вопросительно окинул взглядом своих друзей. Шланг лишь пожал плечами, но Кузнец утвердительно кивнул.
– Придём, – сказал он, как отрезал. – Ещё и Хайфонца приведём.
4.
Уже находясь в Сайгоне, Ань часто невольно вспоминал о своих пеших странствиях по Франции и Италии. Перед путником зачастую открываются истины, о которых лишь с трудом догадывается оседлый, неподвижный человек. Странствия способствуют озарениям, когда ты знаешь, что озарения эти скрыты в самом тебе. Впервые ему захотелось покинуть ставший душным в те летние месяцы каменный мешок Парижа после спора со старым Фаном, во время которого ему непреодолимо захотелось физически глотнуть хоть капельку свежего морского бриза. Споры с Фаном зачастую порождали у него ощущение безнадёжного тупика. Старый Фан был очарован Францией с её Просвещением и Революцией, он верил в то, что новый свободный Аннам может быть рождён чуть ли не из союза с самими же колонизаторами, ведь в их Конституции записаны такие прекрасные принципы. Эти аргументы заставляли Аня задыхаться от ярости, из-за упрямой слепоты старого Фана.
– Поймите, дядя, ведь демократия – это обман, это ложь, при помощи которой держат в узде французский пролетариат. Свобода, равенство и братство существуют только на бумаге. Оглянитесь вокруг!
– Ничто не совершенно в действительности, – сухо отвечал старый Фан. – Но это не значит, что человек не должен стремиться к идеалу.
Они сидели в «Ротонде» на Монпарнасе. За соседним столиком два пьяных вдрызг американца обсуждали некую Зельду. Судя по долетавшим до них невнятным обрывкам английской речи, она была женой одного из них. Ань потянул свой галстук и, вдруг, рывком сорвал его. Столь же порывисто он поднялся из-за столика.
– До свидания, дядя, – сказал он. – Мне надо побыть одному.
Фан рассеянно кивнул, помешивая свой кофе и сосредоточенно рассматривая красные кленовые листья, усеявшие их стол.
Вначале, выбравшись из города через Булонский лес, с посохом в руке и дорожной котомкой за плечом, Ань намеревался совершить лишь долгую прогулку по парижским предместьям, однако, сам того не замечая, он начал уходить всё дальше и дальше вглубь провинции. В его сердце звучала грустная музыка стихов Бодлера. «И моя душа надтреснута, словно тот колокол, – думал он. – Она хочет наполнить своими песнями студёный воздух этих ночей. Её слабеющий голос подобен стонам тяжелораненого солдата. Вот, он лежит под горой трупов, на краю озера крови, и борется, борется, до тех пор пока он не умрёт… Какие же это прекрасные слова! Как точно они отражают состояние души страждущих этой земли».
Лёжа на песчаном каннском пляже, Ань вспоминал о старом Фане с какой-то обречённой жалостью. Сам он не верил ни в какой иной прогресс, кроме прогресса благосостояния правящих классов за счёт растущей нищеты обездоленных масс. Размышляя о возможности изменить мир к лучшему, он верил лишь в индивидуальную волю, этот неподвластный рациональному толкованию феномен, способный на самые удивительные и непредсказуемые свершения. Будучи завзятым ницшеанцем, он в то же время абсолютно не разделял выводов философа о том, что индивидуальная воля направлена всегда лишь на завоевание власти над себе подобными. Это казалось ему слишком мелким для такой силы космических масштабов. Власть над людьми? Увольте! Ведь воля личности сильнее всего именно тогда, когда она направлена к свету свободы, когда ей движет творческий импульс к совершенствованию этого мира. Вот что такое воля. Но воли одного человека слишком мало – это всё равно, что добровольно бросаться к Молоху истории репрессивного государства.
Неудивительно, что при таком ходе мыслей наибольшим спросом статьи Аня пользовались в анархистской прессе Франции, особенно в газете Libertaire.
«Нужно единство индивидуальных воль – Союз равных, как у Штирнера. Большевики смогли создать союз индоктринированных индивидов, кадровую партию, теперь очередь за нами, ещё более свободолюбивыми людьми, теми, кто левее большевиков, – думал он, прислушиваясь к мерному шуму волн, разбивавшихся о берег. – Как же мне не хватает спутников! Не масс для понукания, а равноценных товарищей по борьбе. Видит Бог, они мне нужны не меньше, чем философу Заратустре, и, возможно, также, как и он, я никогда не отыщу таких людей».
Его размышления прервал громкий всплеск. Это девушка, стремительно пробежавшая мимо него по песку, бросилась в море и поплыла навстречу волнам. Странно, как он её не заметил, погружённый в свои размышления? Он намеревался сделать лишь небольшую остановку в Каннах, как раз, чтобы окунуться в море, перед тем как продолжить свой путь к итальянской границе. Ещё по дороге из Лиона в Авиньон, Ань твёрдо решил направить свои стопы в Вечный город. Между тем, немного поплескавшись в ласковых средиземноморских водах, девушка уже выходила на берег из пены морской, отжимая свои густые волосы и искоса кокетливо поглядывая на чужестранца. Она неспешно подошла к нему и запросто, доверительно спросила:
– Ты из Аннама?
Ань присел на песке и кивнул. Она улыбнулась.
Её звали Марилу. Из-за неё он задержался на том пустынном пляже ещё на неделю. Она приходила ближе к полудню, приносила с собой корзину с едой и запотевшей бутылью холодного белого вина. Она с интересом слушала обо всём, что творилось в голове у загадочного чужестранца, раскрывшего перед ней свою душу. В числе прочего говорил он с ней и о старом Фане, и о своём несогласии с ним.
– Я сам перевёл Руссо на язык своей страны, Марилу, но я никогда не поверю в возможность социального контракта между властью и народом. Как можно всерьёз утверждать, что избирательный бюллетень, брошенный в урну, раз в несколько лет способен подарить человеку свободу? Это же насмешка над здравым смыслом!
– Ты анархист, чужеземец.
– Да, я анархист, если на то пошло! Народное волеизъявление – это не голосование за политических мошенников, нет! Это природное явление, способное перевернуть устоявшийся порядок, это дремлющее цунами творческой энергии.







