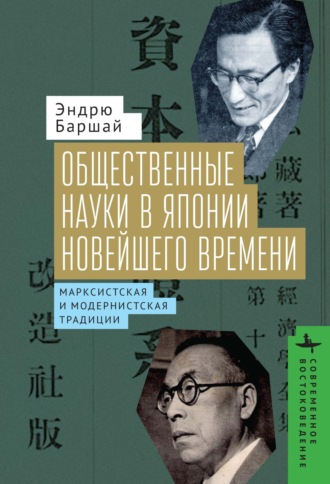
Эндрю Баршай
Общественные науки в Японии Новейшего времени. Марксистская и модернистская традиции
Начиная с конца 1880-х годов, как показывают Конституция Мэйдзи (1889), Императорский рескрипт об образовании (1890) и Гражданский кодекс (1898), «успех» в великом предприятии по наращиванию богатства и силы все чаще определялся с точки зрения сохранения жизнеспособности национальной культуры для защиты от угрозы западного влияния. Политики, чиновники, бизнесмены, педагоги и публицисты в равной степени утверждали, что феодальные ценности покорности и сильное коллективистское сознание – черты, присущие все еще преимущественно аграрному обществу Японии, – способствуют связи людей с властью, несмотря на травмы индустриализации. Уникальная традиция Японии послужила бы тормозом как для индивидуализма, так и для радикальных идеологий – характерных, по их мнению, патологий общества модерна, – и в то же время способствовала бы правильному прогрессу. Таким образом, Япония модернизировалась благодаря традициям, а не вопреки им; на мировой исторической арене появился новый, неотрадиционалистский способ модернизации.
Успех, однако, принес разочарование и тревогу. Здесь наряду с неотрадиционалистской модернизацией возникает сопутствующая тема, которая, похоже, развивалась почти независимо: а именно, «японский путь», который неизбежно привел к фашизму и внешней агрессии или превратился в них. Одно время фашизм и тотальная война рассматривались как необъяснимые последствия «абсолютизма императорской системы» в Японии. Но в более жизнерадостных воззрениях на историю страны после Реставрации Мэйдзи, которые долгое время пользовались популярностью, эти продукты японской модерности, как правило, предстают как стихийные бедствия, которые «случились» с нацией28. На определенном уровне человеческого опыта, конечно, так оно и было. Однако в той мере, в какой общественные науки рассматривают историческую перспективу, связь между «успешной» поздней модернизацией Японии и ее империализмом – необходимой платой за этот успех – остается проблематичной; на самом деле, эта связь настолько проблематична, что дает полное основание для отказа от такой исторической перспективы. Однако мы себе этого позволить не можем, и здесь, по-видимому, будет уместным изложить предварительное мнение по этому вопросу29.
Вступление Японии в международное сообщество произошло на условиях, в значительной степени продиктованных Западом. Существовали «правила игры», которые нужно было принять, а также множественные способы того, как играть роль «национального государства». Некоторые из них считались более актуальными, чем другие. В зависимости от времени и обстоятельств Япония эпохи Мэйдзи попеременно представлялась миру то молодой и энергичной ученицей викторианских либералов, то «Пруссией Востока», в последующие эпохи возникали все новые версии саморепрезентации. Но в самой Японии существовало почти всеобщее согласие с необходимостью стать «богатой страной с сильной армией» (фукоку кё:хэй). Среди национальных элит практически не возникало предубеждений против развития инфраструктуры. Кроме того, развитие, воплощенное в державах, с которыми Япония имела значительные контакты, включало в себя компонент зарубежной экспансии. Более того, никакого реального предубеждения против взаимодействия с внешним миром, особенно с Азией, не было; под вопросом были условия. Для многих японцев успешное развитие требовало быстрого создания империи, способной защитить себя – иначе оставалось только стать чьей-то колонией. Такова, по крайней мере, была угроза, которую снова и снова выдвигали перед основной массой населения – наряду с идеей о том, что народ растет слишком быстро, чтобы его можно было удержать на небольшой территории японского архипелага без обнищания и массовых страданий. Оппозиция экспансии действительно существовала – первоначально руководствовавшаяся политическими, экономическими, а позже и этическими соображениями, – но это была позиция меньшинства. Никто не должен был препятствовать «влиянию его милостивого величества»; Япония превратилась в отсталую империю30.
В то же время японские чиновники, публицисты, журналисты – и обществоведы – быстро почувствовали расовое, религиозное и географическое отчуждение страны от «цивилизации» государственной системы модерна, в которой доминировали атлантические державы31. В течение десятилетия после Версальской конференции Япония представала в роли жалкого «нищего», по расовым соображениям лишенного справедливо завоеванной сферы влияния, а вскоре после – она стала главной страной в Азии.
Заманчиво думать, что Япония как азиатское и нехристианское общество должна была ощущать свое отчуждение глубже, чем другие отсталые империи, и что чувство культурной утраты, требуемое в качестве цены за вступление в систему государств модерна, должно было быть в Японии сильнее, чем, например, в России или Германии. Но так ли это? Исторический оптимизм Японии – ощущение того, что ее неотрадиционалистский способ рационализации оказался не только успешным, но и морально справедливым и этнически специфичным, – в конечном счете внес более существенный вклад, чем чувство отчаяния, порожденное утратой идентичности в годы тотальной войны и тотального поражения, остающихся стержнем Новейшей истории Японии. Однако вскоре раны, связанные с этим опытом, начали затягиваться, по крайней мере настолько, чтобы в последние десятилетия неотрадиционалистские ценности и способ развития Японии рассматривались как образец для индустриализации других азиатских обществ. Однако знакомство и кажущееся сходство не следует принимать за близость; отношения Японии со своими соседями остаются, мягко говоря, напряженными. Японские общественные науки в своем истоке и развитии дают представление о том, почему так происходит.
Несомненно, элементы отчуждения объединяли японских, немецких и российских мыслителей, однако проявлялись они по-разному. Для Японии официальным образцом («как справиться с отчуждением развития») стала Германия Бисмарка, для России – нет; Россия представляет собой сложную и увлекательную подтему. Опека недавно объединившейся Германии над Японской империей охватывала обширные области политического управления и юриспруденции и глубоко проникала в сферу культуры выражения: молодые поколения будущих элит оттачивали свои интеллектуальные способности, например на «Страданиях юного Вертера» Гёте. С другой стороны, столкнувшись с Россией XIX века, японцы столкнулись с огромной, отсталой, преимущественно аграрной империей, только начинающей процесс индустриализации; Россия, региональный соперник и нависающая угроза, также рассматривалась в некотором смысле как движущаяся по путям, параллельным Японии. В русской литературе японцы обнаружили двойной образ: эксплуатируемого крестьянства как метафоры человечества, ставшего мудрым благодаря страданиям, и интеллигенции, стремящейся реформировать или, при необходимости, уничтожить общество, которое ее породило. Хотя капиталистическая индустриализация в Японии на самом деле оказалась более продвинутой, чем в России, эмоциональный резонанс противостояния деревни и города и там и там был неподдельным. Как отметил Вада Харуки, ощущение того, что массы обеих стран могли быть «объединены страданием», составляет одно из важных направлений в японских представлениях о России, особенно в области искусства и литературы [Вада 1985: 11–32].
Осознание отличия от «развитого» Запада фантастическим образом способствовало развитию оригинальной общественной мысли среди отсталых империй, от глубин нативизма, через разновидности народничества, до «реакционного модернизма» и революционного марксизма. Значительная часть интеллигенции отсталых империй рассматривала полное внедрение западных институциональных и технических достижений как средство собственного культурного самоубийства. Ужасы манчестерского либерализма для одних, бюрократизации для других и двойные ужасы социализма и революции для третьих стимулировали рост общественных наук, которые были многогранными, но коренным образом не вписывались в современный мир. Хорошо известен тезис о так называемом трагическом сознании в немецкой социологии от Фердинанда Тенниса до Георга Зиммеля и Макса Вебера и далее. Его основная мысль была кратко описана Мартином Джеем (со ссылкой на Зиммеля и раннего Лукача): «Хаотическое богатство жизни борется за то, чтобы обрести связную форму, но оно может сделать это только ценой того, что делает его живым» [Jay 1984: 86]. Сознание, вытекающее из этого тезиса, было трагическим, потому что оно не понимало того, что в долгосрочной перспективе силы, выступающие за «согласованность», то есть «цивилизацию» или «современность», подвержены истощению32. Между тем ранние выступления славянофилов в защиту традиционных сообществ и царства духа, особенно в национальных и религиозных формах, положили начало русской консервативной утопии. После реформ 1861 года она была подхвачена панславистами и другими идеологами российской реакции, окончательно превратившись в великодержавный шовинизм, совмещенный с антисемитизмом [Валицкий 2013: 92–114, 290–308]33. В ту же историческую эпоху русская интеллигенция мучилась из-за своей вины перед «массами» и зависимости от государства ради сохранения привилегий. Из этой «вины» родилось народничество и ви́дение деревенской общины, которое была сверхъестественно социалистическим. Наследие народничества в истории социализма и движений за аграрную реформу было огромным.
Как уже отмечалось, японская общественная мысль во многом разделяла эту отчужденную перспективу: следует отметить привилегированное отчуждение того, чью власть не ценят в полной мере, а не того, у кого власти вообще нет34. Национальный органицизм, возвеличивание деревни и национальной общности и сдерживание индивидуализма – все это имеет свои аналоги, и консервативные, и радикальные. Хорошо известно увлечение японцев с 1880-х годов русскими анархистами и нигилистами [Akamatsu 1981]. В 1920-х годах группа японских агрономов попыталась использовать теорию крестьянского хозяйства А. В. Чаянова для анализа японского сельского хозяйства, рассматривая ее как «модель для страны, состоящей из мелких крестьян, вроде Японии». Но она не подошла35. Было слишком поздно перескакивать через капиталистическую стадию, поэтому традиция официально встала на службу капитализму. Японцы, в отчаянии или с надеждой, цеплялись за чувство «обращения к массам» и за идеал отчуждения от императорского государства. В любом случае к 1920-м годам революции в России, сначала в 1905 году, а затем (две) в 1917 году, переключили внимание как радикальных, так и консервативных обществоведов на совершенно неожиданный приход социализма: как и почему это произошло в отсталой России? Могло ли это произойти в Японии? Что можно сделать в сфере общественных наук, чтобы способствовать или препятствовать процессам, которые могли бы привести к японской революции?
Основная линия развития, однако, следовала путями, проложенными в Германии: по направлению к интенсивной индустриализации, могущественной бюрократии, неохотно уступающей место парламентской (и радикальной) политике, и превращению культуры в товар – в Германии из-за оплакивания утраченного сообщества, в Японии из-за профилактической осторожности. «Официальный» взгляд на этот процесс в Японии был сформулирован в 1909 году крупным деятелем Ито Хиробуми: он был уверен, что, пока Японская империя сохраняет характер «обширной деревенской общины» (унаследованный от многовековой изоляции эпохи Токугава), она преуспеет на своем пути к национальной независимости и статусу мировой державы [Ito 1909].
Другими словами, Ито для достижения успеха делал ставку на неотрадиционалистскую рационализацию. С точки зрения экономических и социальных структур (см. главы 2 и 3) это означало ставку на отсталость и ее поддерживающие ценности. На кону стояли быстрое развитие тяжелой промышленности с ее огромными потребностями в капитале и рабочей силе, которое могло быть достигнуто первоначально на основе излишков, изымаемых из сельского хозяйства и сельской промышленности. Тот же самый процесс способствовал бы созданию империи, которая, наряду с тяжелой промышленностью, в конечном счете начала бы окупать затраченные усилия. Таким образом, отсталость в одной области должна была быть использована для преодоления ее в другой.
Важность этих внутренних тенденций в Японии заключается не только в поразительном сходстве с другими странами, но и в их региональном политическом контексте. На этом этапе контрасты между Японией и другими отсталыми странами становятся очевидными. Россия, «бастион европейской реакции», могла вмешиваться и вмешивалась в вестнизированные революции на своих колониальных границах. Она могла бороться с модерностью на своих рубежах, но только страшной ценой революционных потрясений, в которых было (и остается) трудно определить природу и даже сущность революционных и контрреволюционных сил36. Германия развязала первую в мире тотальную войну во имя «идей 1914 года». Потерпев поражение и столкнувшись с карательным урегулированием, элиты расколотого общества заплатили за свое выживание насильственным выступлением против левых, подстрекательством или, по крайней мере, молчаливым согласием с преждевременным прекращением демократии и приглашением к торжеству технического нигилизма во имя порядка.
Япония, конечно, географически далека от Европы, однако в некотором смысле, как прямо, так и косвенно, она все-таки оказала некоторое влияние на континентальные события. Разгромив Россию в 1905 году, Япония фактически выступила в качестве азиатского придатка западной модерности37. «Реставрация Мэйдзи вызвала русскую революцию» – сокращенная формулировка, в которой заключена немалая доля правды. До начала 1930-х годов сотрудничество – фактически союз – с «англо-американским» порядком было правилом. Что еще более важно, по отношению к Азии Япония представляла собой роковой парадокс. Поскольку Япония экспортировала свою форму неотрадиционалистской рационализации в Азию, она также стала образцом азиатского национализма; призыв к «традиционным» конфуцианским добродетелям сочетался с заявлениями о расовой солидарности в духе лозунга до:бун до:сю, «одна письменность, одна раса». Китайцы, корейцы и более далекие вьетнамцы, тайцы (чья страна никогда не была колонизирована), бирманцы и индийцы не могли не видеть восторга в промышленных и военных достижениях Японии. Таким образом, Японская империя также разжигала огонь антиколониального национализма, направленного как против Запада (особенно Великобритании), так и против самой Японии. Однако японские официальные лица и лидеры общественного мнения никогда до конца не понимали, какие силы они пробудили; они думали, что достаточно призвать Азию к единству против Запада, и дали отпор, когда это единство было обращено против Японии. Политическая близорукость – неотъемлемая часть исторического оптимизма, о котором говорилось ранее, – проникла в японское мышление, не в последнюю очередь в область общественных наук.
Так, Япония выбрала то, что Баррингтон Мур однажды назвал «капиталистически-реакционным» путем к современности. Используя формулировку покойного Мураками Ясусукэ, Япония создала модель «отсталого консерватизма». В любом случае именно эту Японию, успешную, но беспокойную отсталую страну на пути модернизации, общественные науки избирали в качестве своего объекта – а часто и покровителя. Для нас вопрос заключается не в том, «как эти условия исказили “настоящие” общественные науки?», а скорее в том, «какие “настоящие” общественные науки возникли в этих условиях?»
Глава 2
Общественные науки в Японии Новейшего времени
Краткий обзор
История японских общественных наук разворачивалась в пяти последовательных «тенденциях», или интеллектуальных ориентациях, которые определяли проблемы, обуславливали анализ, стимулировали дисциплинарное развитие и – что важно – помогали установить условия коллективной деятельности в публичном дискурсе: что такое Япония? Нация подданных императора? Нация классов? Один «народ» (Volk)? Один «народ» «модерных» индивидов?
Общественные науки где бы то ни было – это именно «наука», способ(ы) познания модерности. И как таковая она роковым образом связана с политическими, социальными и культурными контекстами, особенно через профессиональные группы и институты, в которых она практикуется. Как станет понятно позже, изложение здесь смещено в сторону элитарных институтов и ученых, в основном потому, что общественные науки в Японии, как и во многих отсталых государствах, выросли из государственных интересов и развивались в ходе неравного состояния между элитарной и неэлитарной наукой; свободного рынка идей не существовало. Повествование также носит формалистический характер, поскольку «общественные науки» трактуются в терминах осознанной профессиональной деятельности самих практиков. Тот факт, что истоки большинства дисциплин и теорий как таковых, возможно, лежали за пределами Японии, интеллектуально важен, но «история» здесь начинается с того момента, когда японские ученые решили объединить те дисциплины, которые, по их мнению, имели значение для страны.
Первая тенденция – это роль зарождающихся общественных наук в попытках определить контуры Японского государства и общества в том виде, в каковом они сформировались к 1890-м годам, с точки зрения их отличия от западных держав, предоставивших японским элитам модели развития, и азиатских обществ, которые Япония, часто с презрением, обгоняла в погоне за промышленным богатством и военной мощью38. Эта неотрадиционалистская тенденция, которую мы считаем решающей и даже доминирующей в долгосрочной перспективе, была связана с императорской рационализацией и привела к формированию науки о самобытности, об особенностях, о самой японскости, воплощенной в воображаемой связи между институтом монархии и идеализированным деревенским сообществом. Наука о самобытности – если вспомнить о проблемах, возникших в ходе наших вводных рассуждений, – также была и наукой об «отчуждении развития». Вторая – это «либеральная», или плюрализирующая, тенденция, сконцентрированная в первых трех десятилетиях XX века, основной целью которой был вызов национальной специфике и утверждение «нормальности» Японии по сравнению с другими конституционными системами модерна; от этой универсалистской позиции исходила и критика системы с точки зрения присущего ей неравенства и необходимости общественных преобразований, с акцентом на условия жизни урбанизированных работников Японии. Объединением и систематизацией критического анализа обеих предшествующих тенденций стала третья – марксизм, представленный спорами между двумя соперничающими школами о природе, процессе развития и перспективах японского капитализма. Эта марксистская тенденция в краткосрочной перспективе оказалась внезапно прервана государственными репрессиями, а также массовым вовлечением ее сторонников в несостоявшийся тоталитарный режим конца 1930-х годов. Но в долгосрочной перспективе марксизм представлял собой единственное интеллектуальное и политическое движение, которое претендовало на то, чтобы стать синонимом общественных наук как таковых, преодолев пристрастность буржуазности; по этой причине ему отведено почетное место в данной истории. Более того, марксизм мощно повлиял на четвертую, не менее важную тенденцию – послевоенный модернизм (киндайсюги), который стремился присвоить себе бо́льшую часть более ранней марксистской критики довоенного государства и общества в интересах построения нового «человека», Homo democraticus, в период послевоенной оккупации и реконструкции. Однако к 1960-м годам Homo democraticus существенно преобразился в Homo economicus, поскольку модернизм превратился в науку – и идеологию, – которую мы называем «ростизмом» (growthism). Пятая и заключительная тенденция также имеет двойной аспект: с одной стороны, «культуралистский», в котором элементы оригинальной науки о самобытности, военной рационализации, модернизма и ростизма объединились в идею новой исключительности, фактически доминирующей в практике японских общественных наук до начала 1990-х годов. Однако мы полагаем, что ростизм сошел на нет сам по себе после окончания холодной войны и краха экономики пузыря и что культурализм в конечном счете не сможет выжить без этого. Отсюда, с другой стороны, фактическое многообразие практики общественных наук, сопровождающееся заметной идеологической путаницей.


