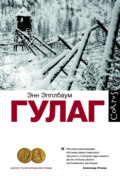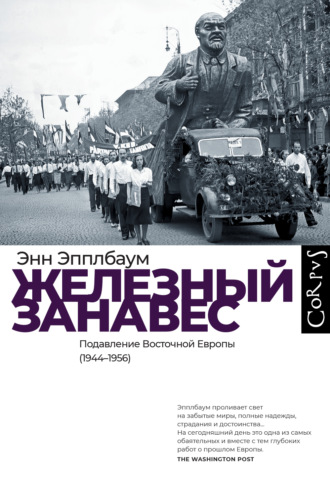
Энн Эпплбаум
Железный занавес. Подавление Восточной Европы (1944–1956)
До 1939 года и умеренные левые, и стойкие антифашисты могли поддерживать Советский Союз без особых раздумий. Но в тот год советская внешняя политика радикально поменялась – и попутчикам теперь стало нелегко поспевать за ней. В августе Сталин подписал с Гитлером пакт о ненападении. Как уже отмечалось во введении к этой книге, в секретных протоколах к этому пакту два диктатора поделили Восточную Европу. Сталин получил Балтийские государства, восточную Польшу и северную Румынию (Бессарабию и Буковину). Гитлеру досталась западная Польша, а также возможность вести себя как дома в Венгрии, Румынии и Австрии – без возражений советской стороны. Подписав пакт, Гитлер 1 сентября 1939 года вторгся в Польшу, а это вынудило Великобританию и Францию объявить немцам войну. Менее чем через три недели на Польшу напал и Сталин. Части вермахта и Красной армии сошлись на линии новой границы и, обменявшись рукопожатиями, договорились не трогать друг друга. Всего за одну ночь коммунистические партии всего мира получили указание сбавить критику в адрес фашизма. Гитлер, конечно, не был союзником, но и врагом он тоже не был. Вместо нападок на Гитлера товарищам рекомендовали описывать разгоравшуюся войну как столкновение между «двумя группами капиталистических стран, преследующих собственные империалистические интересы». Им также предписывалось покинуть народные фронты, которые «лишь оправдывали капиталистическую систему угнетения трудящихся».
Этот тактический маневр нанес колоссальный удар по коммунистической солидарности. Германская коммунистическая партия оставалась яростно антифашистской, и для многих ее членов идея соглашения с Гитлером была абсолютно неприемлемой. Польская коммунистическая партия раскололась на тех, кто приветствовал советское вторжение в восточную Польшу – они рассчитывали на административные должности и рабочие места, и тех, кого ужасало исчезновение их страны с карты мира. В других странах коммунисты испытывали огромное замешательство из-за новой системы отношений, которую им пришлось осваивать, откликаясь на происходящие события. Сам Коминтерн мучился над своими «тезисами», переписывая их снова и снова настолько часто, что один из членов политбюро едко заметил: «Товарищ Сталин за это время успел бы написать целую книгу!»[203] Москва отчаянно пыталась сохранить высокий моральный дух в рядах своих последователей. Так, согласно имеющимся данным, в феврале 1941 года Ульбрихт встречался с членами Германской коммунистической партии в московском отеле «Люкс», чтобы ободрить их, в частности, рассуждениями о том, что война закончится целой серией ленинских революций. Немецкие коммунисты в Москве, говорил он, должны готовиться к такому повороту событий[204].
И все же на протяжении двадцати двух месяцев СССР и нацистская Германия оставались настоящими союзниками. Советский Союз продавал немцам нефть и пшеницу, из Германии в ответ шли в СССР промышленное оборудование, технологии, образцы вооружения. Советские власти предложили немцам использовать базу для подводных лодок в Мурманске. Заключение пакта привело также к обмену узниками: в 1940 году несколько сотен немецких коммунистов были доставлены из ГУЛАГа на советско-германскую границу. Маргарита Бубер-Нойманн была среди них. На границе измученные немецкие коммунисты попытались примириться со старыми врагами: «Эсэсовцы и гестаповцы встретили нас нацистским салютом и гимном Deutschland, Deutschland über Alles. Поколебавшись, наши люди подхватывали мотив – лишь немногие не вскидывали вверх руки и не пели. Среди них был и один еврей из Венгрии»[205]. Несмотря на эту демонстрацию лояльности, большинство депортированных коммунистов закончили свои дни в нацистских тюрьмах и лагерях. Саму Бубер-Нойманн прямо с границы доставили в концлагерь Равенсбрюк, где она находилась до конца войны. Отсидев и в ГУЛАГе, и в гитлеровском лагере, она оказалась жертвой двух диктатур по очереди. В Западной Европе подобные истории быстро забылись: ведь здешняя война была войной против Германии. Но в Восточной Европе о них помнили очень долго.
Парадоксальным образом нападение Гитлера на Советский Союз, состоявшееся в июне 1941 года, вернуло международному коммунистическому движению жизненную силу. Теперь, когда Сталин стал злейшим врагом Гитлера, коммунистические партии обеих частей Европы снова объединились вокруг Страны Советов. В свою очередь, в СССР вновь начали воспринимать иностранных коммунистов с энтузиазмом: теперь они рассматривались как союзники, «пятая колонна» внутри оккупированной нацистами Европы. Тактическая линия Сталина приспосабливалась к новым обстоятельствам. Международному коммунистическому движению опять поручили объединиться с социал-демократами, центристами и даже капиталистами ради создания «национальных фронтов», способных победить Гитлера.
Лояльных коммунистов забрасывали в их родные края, хотя не все проекты такого рода увенчались успехом. В конце 1941 года Красная армия помогла первой группе «московских» коммунистов перебраться в оккупированную нацистами Польшу, где с помощью радиооборудования и переданных НКВД контактов они в феврале 1942 года основали новую Польскую рабочую партию (Polska Partia Robotnicza)[206]. Очень скоро товарищи перессорились между собой, испортив при этом отношения с другими группами Сопротивления; как предполагается, по меньшей мере раз они сотрудничали с гестапо в ходе операции против Армии Крайовой. Один из группы убил другого во время ссоры. В конце концов группа утратила радиоконтакт с Москвой и, пока длилось эфирное молчание, избрала другого командира[207]. Им стал Владислав Гомулка, не сумевший заручиться расположением Кремля ни тогда, ни позже. Озабоченный такой самодеятельностью, Советский Союз направил «своим» коммунистам нового лидера, но тот, прыгая с парашютом, был ранен и покончил с собой, чтобы не попасть в плен. В результате Гомулка оставался фактическим вождем Польской рабочей партии до тех пор, пока в конце 1943 года в страну не прибыл Берут.
Теперь, когда Москва отчаянно нуждалась в новых, подготовленных кадрах, Коминтерн внезапно вновь обрел важность. По соображениям безопасности его штаб-квартиру переместили в далекую Башкирию, в Уфу, где можно было обучать новое поколение коммунистической агентуры, не опасаясь бомбежек или внезапных атак. Там, в глубоком тылу, СССР начал готовить кадры для послевоенного мира. Коминтерн не впервые брался за такую задачу: созданный политбюро специальный комитет, в состав которого входил и Сталин, курировал создание первого такого учебного центра в Москве в 1925 году. Для первых слушателей задавались весьма высокие стандарты. Им предписывалось владеть английским, немецким или французским языком, знать наиболее важные работы Маркса, Энгельса и Плеханова, пройти специальный тест Коминтерна, а также доскональную проверку личных данных. «Это чрезвычайно важно, – подчеркивали чиновники Коминтерна в то время, – поскольку учебное заведение потеряет всякий смысл, если туда не будут отобраны подходящие люди»[208].
С самого начала средоточием учебного курса были марксистские дисциплины – диалектический материализм, политэкономия, история ВКП(б), хотя слушателям предлагались и практические навыки. Порой обращение к практике выглядело весьма забавно. Слушателей, например, попытались учить жизни на советских фабриках («чтобы они могли познать диктатуру пролетариата изнутри»), но из этого ничего не вышло, так как на определенном для выполнения этой задачи металлургическом комбинате не нашлось работы для неквалифицированных людей, в большинстве своем к тому же не говоривших по-русски. В итоге рабочие лишь посмеялись над ними[209]. Что еще хуже, внутри каждой коммунистической партии были споры и разногласия, и всегда находились товарищи, заявлявшие, будто в условиях их страны советский опыт будет неприменимым. Документы Коминтерна 1930-х годов изобилуют взаимными обвинениями и контробвинениями. В биографиях некоторых слушателей обнаруживались «темные пятна»: «буржуазное происхождение» не позволяло им руководить рабочим классом. К разочарованию организаторов, образцовыми революционерами оказывались лишь немногие[210].
Впрочем, к 1941 году Коминтерн уже набрался опыта, и накануне гитлеровского нашествия набор слушателей проводился более упорядоченно. Зарубежные партийные лидеры, находившиеся в Москве, незамедлительно развернули сложную процедуру розыска своих товарищей во всевозможных тайных прибежищах и лагерях для беженцев, где они спасались от войны, а также от советских лагерей. Тех, кто находился под арестом или уже провел несколько лет в ГУЛАГе, немедленно реабилитировали – лишь бы человек на тот момент оказался в живых.
Немецкие лидеры Ульбрихт и Пик особенно прилежно разыскивали немецких коммунистов, разбросанных по всему Советскому Союзу. Среди прочих они нашли молодого Вольфганга Леонарда, в начале войны высланного в казахстанскую Караганду, где он отчаянно голодал. Свалившееся буквально с небес официальное письмо в июле 1942 года безапелляционно вызвало его в Уфу. Все обстоятельства его первого знакомства с Коминтерном военной поры были весьма таинственными. Вход в главное здание был декорирован роскошными колоннами, но при этом вывеска отсутствовала и ничто не указывало на то, что здесь расположился штаб мирового коммунистического движения. По приезде Леонарда немедленно покормили: было впечатление, что прибывавшие сюда товарищи не ели по несколько дней. Затем состоялась краткая встреча с начальником отдела кадров, который без всяких объяснений объявил молодому коммунисту, что скоро ему предстоит ехать дальше: «Мы укажем вам конечный пункт маршрута».
В течение следующих нескольких дней он встретил много старых друзей, в основном детей немецких коммунистов, вместе с которыми учился в московской школе и ходил на комсомольские собрания. Никто из них не рассказывал о недавнем прошлом, не делился планами на будущее и даже не отзывался на свое подлинное имя. «Постепенно я понял, – говорит Леонард, – что тут вообще не принято много говорить, а область молчания весьма обширна». Вскоре нашего героя столь же внезапно оповестили о том, что ему пора уезжать. Речная посудина переправила его через реку, потом путь продолжился в грузовике, а затем пешком. В конце концов он прибыл на старую ферму, в которой и располагалась школа Коминтерна. В обстановке глубочайшей секретности молодой коммунист приступил к занятиям[211].
В последующие несколько месяцев Леонард и его товарищи слушали стандартные лекции по марксизму, диалектическому и историческому материализму. Особый акцент делался на историю коммунистических партий отдельных стран и историю самого Коминтерна. Студенты также получили доступ к закрытым докладам и материалам, недоступным для рядовых советских граждан. В силу важности их будущей миссии им также разрешили знакомиться с нацистской и фашистской литературой. Как отмечает Леонард, это позволило им лучше понимать врага: «Мы по очереди представляли перед всей группой ту или иную идеологическую доктрину нацизма, в то время как нашим товарищам надо было критиковать ее, предлагая все новые аргументы. Студент, выступавший на стороне нацистов, должен был излагать свои взгляды с максимальной четкостью и убедительностью; чем лучше он представлял нацистскую точку зрения, тем выше была его оценка»[212]. Но, несмотря на то что нацистскую литературу студентам разрешали читать, сочинения коммунистических диссидентов или противников Сталина в школе были запрещены: «В то время как на прочих семинарах поддерживался весьма приличный уровень дискуссии, семинар, посвященный троцкизму, сводился к неистовым и яростным обличениям»[213].
В войну работало несколько подобных школ, причем не только для коммунистов, но и, например, для офицеров «дивизии Костюшко», польского подразделения Красной армии, а также для пленных немецких офицеров, направляемых на «перевоспитание». Многие политики, которым в будущем предстояло занять видные посты в послевоенных коммунистических государствах, обучались в них сами или посылали туда своих детей. Жарко, сын Тито, был одним из товарищей Леонарда. С ним училась и Амайя Ибаррури, дочь испанской коммунистки Долорес Ибаррури (Пассионарии), одного из самых прославленных ораторов испанской Гражданской войны.
В этих школах выступали весьма яркие личности. Так, Якуб Берман, который позже курировал вопросы идеологии, безопасности и пропаганды в Польше, преподавал польским коммунистам в Уфе начиная с 1942 года. Уже в то время, как и позднее, он старался неукоснительно следовать партийной линии. Он, в частности, поддерживал самые тесные отношения с Софией Дзержинской, вдовой основателя советской тайной полиции Феликса Дзержинского, поляка по национальности. Эта женщина была кем-то вроде крестной матери польских коммунистов, живших в Советском Союзе, и Берман бережно хранил копии адресованных ей своих писем. Хотя они довольно официальны и не слишком содержательны, из них можно вывести определенное представление о том, какой была жизнь в военной Уфе. Берман рассказывал своей корреспондентке, что часто ходит слушать других лекторов, среди которых были Пик из Германии, Тольятти из Италии и Пассионария из Испании. Он пристально следил за тем, что происходит в Варшаве («с величайшим вниманием мы следим за новостями о героической битве в нашей стране»). В дни двадцать пятой годовщины СССР он высокопарно сообщал Дзержинской о том, что «Советский Союз для нас – лучший пример того, как нужно будет устроить жизнь у нас на родине»[214].
Берман рассказывал также, что среди порученных ему учебных курсов были история Польши, история польского рабочего движения, а также современная политика. Преподавание этих предметов оказывалось нелегким делом, поскольку Сталин в 1938 году распустил Польскую коммунистическую партию и уничтожил многих ее руководителей. (Позже официальная история партии поясняла, что «хотя Польская коммунистическая партия создавалась на базе марксизма-ленинизма, она так и не смогла покончить с раскольническими тенденциями в своих рядах»[215].) Пришедшая ей на смену Польская рабочая партия, которую возглавлял Гомулка, была еще очень малочисленной, поскольку появилась на свет в 1942 году. В других посланиях, адресованных товарищу Леону Касману, Берман более открыто рассуждал о трудностях, возникавших в ходе преподавания истории польского коммунизма. Очевидно, говорил он, что 1930-е годы надо освещать с предельной осторожностью, поскольку о роли Сталина в роспуске партии говорить нельзя, как недопустимо упоминать и о его недоброжелательном отношении к самой Польше[216].
Впрочем, все эти ограничители никак не мешали Берману заниматься индоктринацией молодых поляков и мобилизацией их на защиту интересов Советского Союза. Как-то раз он даже признался Дзержинской в том, что заставляет своих студентов слушать радиопередачи антифашистской и антикоммунистической Армии Крайовой, чтобы уметь эффективно опровергать ее аргументы. В то время как немецкие коммунисты, подобные Вольфу и Леонарду, учились противостоять нацистской пропаганде, польские коммунисты готовили себя к грядущей идеологической борьбе с основным отрядом польского Сопротивления. В одной из своих записок Берман рассуждает о том, можно ли будет найти «здоровые элементы», то есть будущих коллаборационистов, среди крестьянских лидеров и даже в рядах крайне правых национал-демократов. «Чтобы добиться этого, – внушал он Дзержинской, – абсолютно необходимо и дальше придерживаться тактики народного фронта». Польские коммунисты не должны показывать свою суть слишком рано: сначала нужно обзавестись союзниками и попутчиками и только потом проводить реформы советского типа.
Выстраивая подобные планы, он был далеко не одинок. В то же самое время советские руководители вновь готовились к внедрению «народных фронтов» – коалиционных правительств, которым после освобождения предстояло управлять Восточной Европой. В обширном меморандуме 1944 года, подготовленном для Молотова, министр иностранных дел Иван Майский размышлял о том, что пролетарские революции в мире могут растянуться на три или четыре десятилетия. До той поры он предлагал держать Польшу и Венгрию в слабости, Германию, вероятно, разделить, а местным коммунистам позволить работать в тандеме с другими партиями. В интересах СССР, заключал он, сделать так, чтобы «послевоенные правительства основывались на принципе широкой демократии в духе народных фронтов»[217].
Разумеется, слово «демократия» не стоит принимать здесь за чистую монету, поскольку Майский одновременно дает понять, что эти новые правительства, создаваемые «в духе народных фронтов», не станут мириться с существованием политических партий, враждебных социализму. На практике это означало, что в некоторых странах (он упоминает Германию, Венгрию и Польшу) будут применяться «различные методы» внешнего давления, препятствующие подобным партиям прийти во власть. Сущность этих методов министр не поясняет.
Подвергаясь преследованиям на Востоке и на Западе, европейские коммунисты всех оттенков глубоко усвоили культуру конспирации, секретности, замкнутости. В своих родных странах они организовывались в ячейки, члены которых знали друг друга по псевдонимам и общались посредством паролей и тайнописи. В Советском Союзе они старались не болтать лишнего, воздерживались от критики партии и регулярно проверяли свои квартиры на предмет спрятанных микрофонов[218]. Где бы ни были, они неизменно придерживались «особого этикета», прекрасно описанного писателем Артуром Кёстлером в романах и мемуарах. Кёстлер, большая часть книг которого посвящена его сложным взаимоотношениям с коммунистической идеей, вступил в Германскую коммунистическую партию в 1930-е годы. Во многом это было сделано под воздействием секретности, конспирации, интриг: «Даже самый поверхностный контакт заставлял постороннего человека почувствовать, что члены партии ведут жизнь, закрытую от общества и полную тайн, угроз и постоянного самопожертвования. Трепет, вызываемый соприкосновением с этим таинственным миром, охватывал даже тех людей, кто вовсе не был романтиком. Еще сильнее было ощущение того, что ты пользуешься доверием, оказывая услуги героям, живущим в постоянной опасности»[219].
Соблазн элитарного существования, дополняемого доступом к привилегиям и «закрытой» информации, стимулировал приобщение к коммунизму на протяжении десятилетий. В школе Коминтерна Вольфганг Леонард впервые познакомился с закрытыми циркулярами, предназначавшимися для партийных боссов, осознав при этом, насколько они содержательнее той пропагандистской жвачки, которой кормят массы: «Я очень хорошо помню ощущение, с которым впервые держал в руках один из таких секретных бюллетеней. Меня переполняло чувство признательности за доверие, которым меня облекли, а также гордость за принадлежность к кругу тех избранных, кого сочли достаточно зрелым, чтобы допустить к знакомству с иными точками зрения»[220].
Кроме того, глубочайшее воздействие на европейских коммунистов оказал пережитый ими опыт террора – арестов и чисток, сопровождавшихся крутыми тактическими виражами. В уфимской школе Коминтерна Леонарда унижали, заставляя публично выступать с самой нелепой самокритикой. Размышляя об этом опыте, а также о бесцеремонном поведении некоторых своих товарищей, особенно немки по имени Эмми, вскоре ставшей супругой Маркуса Вольфа, он внезапно задумался: «Можно ли считать взаимоотношения, складывающиеся между нами в школе, идеалом того, как должны общаться друг с другом товарищи по партии? В голову приходили и другие критические мысли, впервые проявившиеся еще в период чисток. Я вспоминал критические разговоры, которые вел некогда, и начинал бояться самого себя. Если я уже рассуждал подобным образом, то к чему же приду в дальнейшем? Я решил, что впредь буду более осторожен в речах, сведя общение с другими людьми к минимуму»[221].
Со временем подобные размышления побудили Леонарда бежать из ГДР и покинуть партию. Но другие, которых унижали ничуть не меньше, никуда не бежали и партию не оставляли. Причем травматический опыт отнюдь не сделал их мягче или милосерднее. Закалившись в страданиях, перенесенных в лагерях и тюрьмах, коммунисты, оставшиеся в партии, стали еще более преданными ее делу. Многие из тех, кто физически уцелел в сталинских чистках и интеллектуально пережил все изгибы партийной линии, вышли из войны не только с окрепшей сектантской лояльностью, но и с большей преданностью Советскому Союзу. Люди, оставшиеся верными партийцами, несмотря на чистки, невероятные тактические кульбиты и сумятицу 1930-х годов, зачастую оказывались настоящими фанатиками. Будучи абсолютно лояльными Сталину и готовыми следовать за ним куда угодно, они подчинялись любым приказам, лишь бы служить своему делу[222].