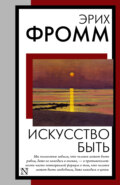Эрих Фромм
Бегство от свободы
Это приводит нас к положению, основополагающему для понимания позиции индивида в средневековом обществе, его этических взглядов касательно экономической деятельности, как они выражались не только в доктрине католической церкви, но и в светских законах. Мы следуем в рассмотрении этого вопроса Р. Г. Тоуни, поскольку его нельзя заподозрить в попытке идеализировать или романтизировать средневековый мир. Базовых утверждений по поводу экономической жизни имеется два: «Экономические интересы подчинены настоящему делу жизни, которым является спасение души; экономическое поведение есть аспект личного поведения, для которого, как и для всего прочего, обязательны правила морали».
Тоуни подробно рассматривает средневековые взгляды на экономическую деятельность: «Материальные богатства необходимы, хотя и имеют вторичное значение: без них люди не могут содержать себя и помогать другим. Однако экономические мотивы вызывают подозрения, они будят алчность; люди их опасаются и не настолько низки, чтобы ими восхищаться… В средневековой теории нет места экономической активности, которая не была бы связана с моральными целями; основывать науку об обществе на предположении, что стремление к выгоде есть постоянная и измеряемая сила, которую следует принимать, как все другие природные силы, как неизбежную и очевидную данность, средневековому мыслителю казалось бы не менее иррациональным и аморальным, чем положить в основу социальной философии неограниченное действие таких неизбежных человеческих качеств, как драчливость и половой инстинкт… Богатства, как говорит святой Антоний, существуют для человека, а не человек для богатств… Поэтому на каждом шагу есть пределы, ограничения, предостережения против того, чтобы позволить экономическим интересам вмешиваться в серьезные дела. Для человека правильно искать такого богатства, которое необходимо для жизни в его положении. Искать больше – не предприимчивость, а алчность, а алчность – смертный грех. Торговля законна, разные ресурсы в разных странах показывают, что она входила в намерения Провидения. Однако дело это опасное. Человек должен быть уверен, что занимается торговлей для общего блага, и что доход, который он получает, не более чем плата за его труд. Частная собственность – необходимое установление, по крайней мере в этом греховном мире, люди работают больше, а спорят меньше, когда добро принадлежит частному лицу, чем когда оно – общее. Однако терпеть ее нужно как уступку человеческой слабости, а не хвалить и желать саму по себе; идеал – если только человеческая природа способна до него подняться – есть коммунизм. “Ибо всему, – писал Грациан в своем Декрете, – что есть в этом мире, надлежало бы быть общим достоянием всех людей”. Действительно, в лучшем случае богатство обременительно. Обретать его следует законно. Оно должно принадлежать как можно большему числу людей. Оно должно употребляться для поддержки бедняков. Его использование должно, насколько это практически возможно, быть общим. Его владельцы должны быть готовы делиться с теми, кто испытывает нужду, даже если те не нищенствуют».
Хотя эти взгляды выражают нормы и не являются точной картиной реальной экономической жизни, они в определенной мере отражают дух средневекового общества.
Относительная устойчивость положения ремесленников и торговцев, характерная для средневекового города, в позднем Средневековье медленно подтачивалась, пока окончательно не рухнула в XVI столетии. Усиливающаяся дифференциация внутри гильдий началась в XIV веке, если не раньше, и продолжалась, несмотря на все попытки ее остановить. Некоторые члены гильдий обладали бо́льшим капиталом, чем другие, и нанимали пять-шесть подмастерьев вместо одного или двух. Вскоре некоторые гильдии начали допускать в число своих членов только тех, кто обладал определенным капиталом. Другие сделались могущественными монополиями, старающимися извлечь все преимущества из своего монопольного положения и как можно больше наживаться на клиентах. С другой стороны, многие члены гильдий впадали в нищету и были вынуждены искать заработок помимо своего традиционного занятия; часто они становились мелкими торговцами на стороне. Они утрачивали свою экономическую независимость и безопасность, хотя отчаянно цеплялись за традиционный идеал экономической самостоятельности.
В связи с таким развитием системы гильдий положение подмастерьев все ухудшалось. Хотя в промышленности Италии и Фландрии класс недовольных работников существовал уже в XIII веке или даже раньше, положение подмастерьев в гильдиях оставалось относительно надежным. Хотя не каждый подмастерье мог стать мастером, многим это все-таки удавалось. Однако по мере того как число подмастерьев у одного мастера росло, для того, чтобы стать мастером, требовался все больший капитал, а гильдии приобретали все более монополистический и недоступный характер, все меньше возможностей оставалось у подмастерьев. Ухудшение их экономического и социального положения проявлялось в росте недовольства, в появлении их собственных объединений, в забастовках и даже бунтах.
То, что было сказано о нарастающем капиталистическом развитии гильдий ремесленников, еще более очевидно в отношении коммерции. Если средневековая торговля была в основном мелким внутригородским предпринимательством, то в XIV и XV веках быстро росла общенациональная и международная коммерция. Хотя историки расходятся во мнениях о том, когда именно начали развиваться большие торговые компании, все согласны с тем, что в XV веке они становились все более могущественными, превращались в монополии и благодаря превосходящей силе капитала угрожали как мелким предпринимателям, так и потребителям. Реформа императора Сигизмунда в XV столетии была направлена на ограничение могущества монополий законодательными средствами. Однако положение мелкого торговца становилось все более и более ненадежным; он «хоть и имел достаточно влияния, чтобы его жалобы были услышаны, но этого было мало, чтобы привести к эффективным действиям».
Возмущение и ярость мелкого торговца в адрес монополий нашли красноречивое выражение в памфлете Лютера «О торговле и ростовщичестве», опубликованном в 1524 году: «Они имеют под своим контролем все товары, без стеснения используют все трюки, о которых говорилось, они повышают и понижают цены, как пожелают, угнетают и разоряют всех мелких торговцев, как щуки мелких рыбешек в реке, словно они господа над божьими тварями и свободны от всех законов веры и любви». Эти слова Лютера могли бы быть написаны сегодня. Страх и злоба, которые средний класс питал в адрес богатых монополистов в XV и XVI веках, во многом сходны с чувствами, характеризующими отношение среднего класса к монополиям и могущественным капиталистам в наше время.
В промышленности роль капитала также росла. Одним из ярких примеров служит добывающая промышленность. Изначально доля каждого члена гильдии горняков находилась в пропорции с объемом выполняемых им работ. Однако к XV столетию во многих случаях паи принадлежали капиталистам, которые сами не работали, а работа все больше выполнялась наемными работниками, не имевшими своей доли в предприятии. Такое же капиталистическое развитие происходило и в других отраслях промышленности, что усиливало тенденцию к расслоению общества на богатых и бедных и усилению недовольства бедняков вследствие роста роли капитала в ремесленных гильдиях и в торговле.
Что касается положения крестьянства, мнения историков расходятся. Впрочем, с анализом, проведенным Дж. С. Шапиро, согласно большинство ученых. «Несмотря на свидетельства процветания, положение крестьянства быстро ухудшалось. В начале XVI века только очень немногие земледельцы были независимыми собственниками земли, которую обрабатывали, и имели представительство в местных органах управления, что в Средние века было признаком классовой независимости и равенства. Подавляющее большинство принадлежало к Hörige, классу лично свободных крестьян, земли которых, однако, облагались налогами; они также были обязаны выполнять многочисленные повинности… Именно Hörige были главной опорой всех крестьянских восстаний. Средний крестьянин, живущий в полунезависимой общине рядом с поместьем аристократа, постепенно осознавал, что рост податей и повинностей превращал его практически в крепостного, а деревенские земли – в часть господского имения».
Экономическое развитие капитализма сопровождалось значительными изменениями в психологической атмосфере. К концу Средневековья жизнь людей оказалась проникнута духом беспокойства. Начала развиваться концепция времени в современном понимании. Минуты сделались ценностью; симптомом этого нового чувства времени можно считать тот факт, что с XVI века куранты в Нюрнберге начали отбивать четверти часа. Слишком большое количество праздников стало казаться несчастьем. Время было настолько ценным, что человек чувствовал: не следует тратить его на что-то бесполезное. Труд все больше рассматривался как высшая ценность. Это новое отношение к работе было настолько настоятельным, что представители среднего класса начали возмущаться экономической непроизводительностью церковных учреждений. Нищенствующие монашеские ордена вызывали неприятие как непродуктивные, а следовательно – аморальные.
Эффективность стала играть роль одной из высочайших добродетелей. Одновременно с этим стремление к богатству и материальному успеху сделалось всепоглощающей страстью. «Весь мир, – говорил проповедник Мартин Бютцер, – помешан на тех занятиях, которые дают наибольшую выгоду. Наукам и искусствам изменяют ради гнуснейшего ручного труда. Те умелые руки, которым Господом была дарована способность к благородным деяниям, оскверняются коммерцией, которая в наши дни так пронизана бесчестностью, что стала последним делом, которым следовало бы заниматься благородному человеку».
Одно из самых заметных следствий тех экономических перемен, о которых мы говорили, коснулось всех. Средневековая социальная система распалась, а с ней исчезла стабильность и относительная безопасность, которую она предлагала индивиду. Теперь, с приходом капитализма, все классы общества пришли в движение. Больше не было фиксированного места в экономической структуре, которое могло бы считаться естественным, не подлежащим сомнению. Человек остался в одиночестве; все теперь зависело от его собственных усилий, а не от надежности его традиционного статуса.
Впрочем, это развитие оказало разное воздействие на разные классы. Для бедных горожан, работников и подмастерьев, оно означало растущую эксплуатацию и обнищание; для крестьян – рост экономического и личного давления; мелкому дворянству тоже грозило разорение, пусть и другого рода. Хотя для этих классов перемены были в основном к худшему, для городского среднего класса ситуация оказывалась значительно более сложной. Мы уже говорили о растущем расслоении в его рядах. Значительная его часть попала во все ухудшающееся положение. Многие ремесленники и мелкие торговцы были вынуждены уступать монополистам и конкурентам, обладавшим бо́льшим капиталом, так что им было все труднее сохранять независимость. Им приходилось сражаться с несравнимо превосходящими силами, и для многих это была отчаянная и безнадежная борьба. Другие представители среднего класса преуспевали больше и пользовались общей восходящей тенденцией поднимающегося капитализма. Однако даже для этих более удачливых дельцов увеличивающаяся роль капитала, рынка, конкуренции меняла их личную ситуацию, приводя к неуверенности, изоляции, тревоге.
Решающее значение, которое приобрел капитал, означало, что экономику и тем самым личную судьбу человека определяла сверх-личностная сила. Капитал «перестал быть слугой и сделался господином. Обретя отдельную, независимую жизнь, он потребовал как доминирующий партнер права диктовать экономическую организацию в соответствии с собственными жесткими требованиями».
Сходное влияние оказывала и новая функция рынка. Средневековый рынок был относительно невелик, и его функционирование было нетрудно понять. Он создавал прямые и конкретные отношения между спросом и предложением. Производитель примерно знал, сколько продукции произвести, и был относительно уверен в том, что сможет продать ее по надлежащей цене. Теперь же приходилось производить изделия в расчете на постоянно растущий рынок, и заранее определить перспективы сбыта было нельзя. Таким образом, оказывалось недостаточно изготовлять полезные предметы. Хотя польза оставалась одним из условий их продажи, непредсказуемые законы рынка диктовали, будет ли товар продан и какой принесет доход. Новый рыночный механизм напоминал кальвинистскую доктрину предопределения, согласно которой каждый человек должен стараться быть добродетельным, однако еще до его рождения было решено, спасется ли он. День рынка сделался судным днем для результатов человеческих усилий.
Другим важным фактором в этом контексте была растущая роль конкуренции. Хотя она, несомненно, не отсутствовала в средневековом обществе полностью, феодальная экономическая система основывалась на принципе кооперации и регулировалась – или, скорее, регламентировалась – правилами, которые сдерживали конкуренцию. По мере подъема капитализма средневековые принципы все больше уступали место индивидуальной предприимчивости. Каждый индивид должен был попытать счастья – выплыть или пойти ко дну. Другие были ему не союзниками, а соперниками, и часто у человека не оставалось выбора – он должен был уничтожить конкурента, чтобы не быть уничтоженным самому.
Конечно, роль капитала, рынка, индивидуальной конкуренции в XVI веке была не так важна, как впоследствии, однако все же к тому времени все основные элементы капитализма уже существовали, как и их психологическое влияние на индивида. Мы только что показали одну сторону картины, но имелась и другая: капитализм освободил человека, освободил от регламентации корпоративной системы, позволил ему стоять на своих ногах и самому пытать счастья. Человек стал хозяином своей судьбы, сам рисковал, сам получал выгоду. Личные усилия могли привести его к успеху и экономической независимости. Деньги сделались великим уравнителем, стали значить больше, чем происхождение или сословная принадлежность.
Эта сторона капитализма еще только начинала развиваться в ранний период, о котором мы говорим. Она играла бо́льшую роль для небольшой группы богатых капиталистов, чем для городского среднего класса. Впрочем, даже при той эффективности, которой тогда обладал капитализм, он оказывал важное влияние на формирование личности человека. Если суммировать теперь обсуждение воздействия на индивида социальных и экономических перемен в XV и XVI веках, мы получим следующее.
Имела место та же двойственность свободы, как и та, что мы обсуждали выше. Индивид освобождается от оков экономических и политических связей. Он также выигрывает в плане позитивной свободы благодаря активной и независимой роли, которую должен играть в новой системе. Однако одновременно он лишается и связей, обеспечивавших раньше его безопасность и чувство принадлежности к сообществу. Человек теперь не проживает жизнь в закрытом мире, центром которого он является; мир сделался безграничным и одновременно угрожающим. Теряя определенное место в закрытом мире, человек теряет ответ на вопрос о смысле жизни; в результате он начинает сомневаться в себе и цели своего существования. Ему угрожают могущественные внешние силы: капитал и рынок. Его отношения с согражданами, каждый из которых является потенциальным конкурентом, делаются враждебными и напряженными; он свободен – а значит, одинок, ему угрожают со всех сторон. Не имея богатства и власти, которыми располагал капиталист в эпоху Ренессанса, лишившись чувства единения с людьми и миром, человек становится охвачен чувством своего личного ничтожества и беспомощности. Рай потерян навсегда, индивид остается в одиночестве лицом к лицу с жизнью – чужак, брошенный в безграничном и угрожающем мире. Новая свобода неизбежно вызывает чувства глубокой неуверенности, бессилия, сомнений, изоляции и тревоги. Чтобы человек мог действовать успешно, эти чувства должны найти облегчение.
2. Период Реформации
На этом этапе развития появляются лютеранство и кальвинизм. Новые религиозные течения были религией не богатых высших слоев общества, а городского среднего класса, горожан-бедняков и крестьян. Для этих групп они были привлекательны, потому что позволяли выразить новое чувство свободы и независимости и отражали охватившие людей ощущение бессилия и тревоги. Однако новые религиозные доктрины давали больше, чем ясное выражение чувств, порожденных меняющейся экономической ситуацией. Новые учения усиливали эти чувства и в то же время предлагали решения, позволяющие индивиду справляться с невыносимой неуверенностью, которая иначе была бы непреодолимой.
Прежде чем начать анализ общественной и психологической значимости новых религиозных учений, необходимо привести некоторые замечания по поводу нашего подхода, которые сделают более понятным дальнейшее изложение. Изучая психологическое значение религиозной или политической доктрины, нужно в первую очередь иметь в виду, что психологический анализ не предполагает суждения об ее истинности. Ответ на этот вопрос может быть найден только в терминах логической структуры проблемы как таковой. Анализ мотивации, лежащей в основе определенного религиозного учения или идеи, никак не может заменить рационального суждения о важности доктрины или предлагаемых ею ценностей, хотя такой анализ может вести к лучшему пониманию ее реального смысла и тем самым к ее оценке.
Психологический анализ доктрины может показать субъективную мотивацию, которая заставляет индивида осознать определенные проблемы и искать пути их решения в определенном направлении. Любая мысль, истинная или ложная, если это не поверхностное согласие с общепринятыми идеями, бывает мотивирована субъективными потребностями и интересами человека, у которого эта мысль возникла. Некоторые интересы подкрепляются поиском истины, другие – наоборот. Однако в обоих случаях психологическая мотивация – важное побуждение для того, чтобы прийти к определенным заключениям. Мы можем пойти даже дальше и утверждать, что идеи, не коренящиеся в сильнейших потребностях человека, окажут мало влияния на его поступки и на всю жизнь.
При анализе религиозных или политических учений применительно к их психологической значимости нужно различать две проблемы. Можно изучать структуру характера индивида, создавшего новую доктрину, и пытаться понять, какие черты его личности несут ответственность за направление его мышления. Говоря конкретно, это означает, например, что мы должны изучать структуру характера Лютера или Кальвина, чтобы выяснить, какие особенности личности побудили их прийти к определенным заключениям и сформулировать определенные доктрины. Другая проблема – изучение психологических мотивов не создателя учения, а социальной группы, в которой доктрина нашла отклик. Влиятельность любой доктрины или идеи зависит от степени ее соответствия психическим потребностям и структуре характера тех, к кому она обращена. Только если идея отвечает сильным психологическим устремлениям определенной социальной группы, она станет влиятельной исторической силой.
Обе проблемы – психология как вождя, так и его последователей – конечно, тесно связаны друг с другом. Если их привлекают одни и те же идеи, то структура их личности должна быть сходной во многих важных аспектах. Помимо таких факторов, как особый талант мыслителя и предводителя со стороны вождя, в его личности обычно особенно ярко проявляются те черты, которые свойственны людям, для которых его идеи привлекательны; он может дать более ясную и откровенную формулировку определенных идей, к восприятию которых его последователи уже готовы психологически. Тот факт, что в структуре личности вождя более резко проявляются некоторые черты, свойственные его последователям, может быть следствием двух факторов или их комбинации: во-первых, его общественное положение может быть типично для тех условий, которые формируют личности всех членов группы; во-вторых, это могут быть случайные обстоятельства его воспитания и его личный опыт, в результате чего те же черты развиваются у него в более выраженной степени, чем у других членов социальной группы.
При анализе психологической значимости протестантизма и кальвинизма мы рассмотрим не личности Лютера и Кальвина, а психологическую ситуацию в тех социальных классах, для которых их идеи были привлекательны. Хочу только коротко упомянуть, прежде чем перейти к обсуждению теологии Лютера, что Лютер как человек был типичным носителем «авторитарного характера», который будет рассмотрен ниже. Будучи воспитан необычайно суровым отцом и не испытав в детстве чувств любви и защищенности, Лютер постоянно разрывался двойственным отношением к власти; он ненавидел ее и восставал против нее, но в то же время восхищался ею и стремился подчиниться ей. На протяжении всей его жизни всегда существовал один авторитет, которому он противостоял, и другой, перед которым он преклонялся, – отец и вышестоящая братия в монастыре в юности, папа и светские князья впоследствии. Лютера переполняли чувства одиночества, бессилия, греховности, однако одновременно он жаждал повелевать. Его преследовали сомнения, какие только может порождать маниакальный характер, он постоянно искал что-то, что дало бы ему внутреннюю опору и облегчило бы муки неуверенности. Он ненавидел других, особенно «чернь», ненавидел себя, ненавидел жизнь; из этой ненависти возникла страстная и отчаянная жажда быть любимым. Все существо Лютера было проникнуто страхом, сомнениями и внутренней изоляцией, и именно на этом личностном базисе выросло то, что сделало Лютера вождем тех социальных групп, которые психологически находились в таком же положении.
Представляется полезным сделать еще одно замечание по поводу последующего анализа. Целью любого психологического анализа мыслей или идеологии человека является понимание психологических корней, из которых эти мысли и идеи произросли. Первым условием такого анализа является полное понимание логического контекста идеи, того, что автор осознанно хочет сказать. Впрочем, мы знаем, что человек, даже если он субъективно искренен, часто может бессознательно руководствоваться иным мотивом, чем думает; он может использовать концепцию, логически предполагающую определенный смысл, но для него подсознательно имеющую совсем иное значение, чем это «официальное». Более того, мы знаем, что человек может пытаться сгладить определенные противоречия в собственных чувствах при помощи идеологических конструкций или замаскировать подавляемую идею рационализацией[8], выражающей нечто прямо противоположное. Понимание действия неосознаваемых элементов учит нас скептическому отношению к словам, которые не следует расценивать по номиналу.
Анализ идей преследует в основном две цели: одна заключается в том, чтобы оценить вес определенной идеи в целостной идеологической системе; другая – в выявлении того, имеем ли мы дело с рационализацией, отличающееся от истинного значения мысли. Примером первой может служить следующая: в гитлеровской пропаганде огромную роль играет акцент на несправедливости Версальского договора; Гитлер искренне возмущался им. Тем не менее если мы проанализируем его политическую идеологию в целом, мы увидим, что в основе ее лежит яростное желание власти и завоеваний, и хотя осознанно Гитлер подчеркивает несправедливость, совершенную в отношении Германии, на самом деле эта мысль занимает небольшое место в системе его мышления. Пример различия между сознательно придаваемым смыслом и реальным психологическим значением мысли может быть найден при анализе доктрин Лютера, которым мы и займемся в этой главе.
Мы полагаем, что отношение Лютера к Богу основывается на подчинении, связанном с человеческим бессилием. Сам Лютер говорит об этом подчинении как о добровольном, проистекающим не из страха, а из любви. Логически рассуждая, тогда можно утверждать, что это и не подчинение вовсе. Психологически, впрочем, из всей структуры мыслей Лютера следует, что его разновидность любви и веры – на самом деле подчинение; хотя он сознательно определяет характер своей покорности как добровольный и основанный на любви к Богу, Лютер настолько проникнут чувствами бессилия и греховности, что это делает его отношение к Богу отношением подчинения (в точности так, как мазохистская зависимость одного человека от другого часто сознательно именуется «любовью»). Таким образом, с точки зрения психологического анализа возражение, будто Лютер говорит нечто отличное от того, что, как мы считаем, он думает (пусть и неосознанно) имеет мало веса. Мы полагаем, что некоторые противоречия в его системе могут быть поняты только с помощью анализа психологического смысла его концепций.
При последующем анализе доктрин протестантизма я интерпретирую эти религиозные доктрины в соответствии с тем, что они значат в контексте всей системы. Я не цитирую высказывания, противоречащие тем или иным концепциям Лютера или Кальвина, если уверен, что их вес и значение таковы, что на самом деле противоречия отсутствуют. Однако приводимая мной интерпретация основывается не на выборе именно тех цитат, которые в мою интерпретацию укладываются, а на изучении систем Лютера и Кальвина в целом, их психологической основы и отдельных элементов в свете психологической структуры всей системы.
Если мы хотим понять, что нового было в доктринах Реформации, мы должны сначала рассмотреть главные особенности теологии средневековой церкви. При этом мы сталкиваемся с теми же методологическими трудностями, которые уже обсуждались в связи с концепциями «средневекового» и «капиталистического общества»: как в экономической сфере нет резкого перехода от одной формации к другой, так и в теологической сфере нет внезапных изменений структуры. Некоторые доктрины Лютера и Кальвина так сходны с учением средневековой церкви, что временами трудно увидеть существенные различия между ними. Как и протестантизм и кальвинизм, католическая церковь всегда отрицала, что человек только в силу своих добродетелей и достоинств может достичь спасения; она утверждала, что милость Бога – непременное условие этого. Однако несмотря на общность всех элементов старой и новой теологии, дух католической церкви радикально отличался от духа Реформации, особенно в отношении проблем человеческого достоинства и свободы и влияния на жизнь человека его собственных поступков.
Определенные принципы были присущи католической теологии задолго до Реформации: природа человека, хотя и оскверненная грехом Адама, внутренне стремится к добру; свобода воли позволяет человеку желать добра; собственные усилия человека имеют значение для его спасения; благодаря церковным таинствам и искуплению смертью Христа, грешник может быть спасен.
Впрочем, некоторые наиболее выдающиеся теологи, как, например, Фома Аквинский, хоть и придерживались изложенных выше взглядов, в то же время проповедовали доктрины, отличавшиеся совершенно иным духом. Хотя в трудах Фомы Аквинского и говорилось о предопределении, он никогда не переставал подчеркивать свободу воли как одну из основополагающих доктрин. Чтобы преодолеть противоречие между этими положениями, ему пришлось использовать чрезвычайно сложные конструкции; однако хотя они и не разрешили противоречия полностью, Фома Аквинский не отступал от учения о свободе воли и о том, что собственные усилия человека могут привести к спасению, пусть сама воля нуждается в поддержке божественной благодати.
О свободе воли Фома Аквинский говорит, что предположение, будто человек не свободен в своих решениях и не волен даже отказаться от благодати, предложенной ему Богом, противоречило бы сущности Бога и природе человека.
Другие теологи больше, чем Фома Аквинский, подчеркивали роль усилий человека в его спасении. По мнению Бонавентуры, намерение Бога – предложить людям благодать, но получат ее только те, кто подготовит к этому себя своими заслугами.
Такое мнение высказывалось на протяжении XIII, XIV и XV веков в трудах Дунса Скота, Оккама и Биля; это особенно важно для понимания нового духа Реформации, поскольку нападки Лютера были направлены против схоластиков конца Средневековья, которых он называл «Sau Theologen» (свиньями-богословами).
Дунс Скот подчеркивал роль воли. Воля свободна. Через проявление своей воли человек реализует свою индивидуальность, и эта самореализация приносит индивиду величайшее удовлетворение. Поскольку воля человека – акт его личности по Божьему соизволению, даже Бог не может оказывать прямого влияния на решения человека.
Биль и Оккам подчеркивают роль собственных заслуг человека как условия его спасения; хотя они тоже говорят о помощи Бога, они отказывают ей в том основополагающем значении, какое приписывалось ей прежними доктринами. Биль полагает, что человек свободен и всегда может обратиться к Богу, чья благодать придет к нему на помощь. Оккам учил, что природа человека на самом деле не испорчена грехом; по его мнению грех – это единичный акт, не меняющий сущности человека. Тридентский собор очень ясно утверждал, что свободная воля взаимодействует с Божьей благодатью, но может и отказаться от этого взаимодействия. Изображение человека, каким его представляет Оккам и другие поздние схоласты, показывает его не как бедного грешника, а как свободное существо, сама натура которого делает его способным на все добрые дела, и чья воля свободна от естественных и прочих внешних сил.
Практика покупки индульгенций, игравшая все бо́льшую роль на протяжении Средневековья и являвшаяся объектом особенно яростных нападок Лютера, была связана с этим растущим акцентом на свободной воле человека и ценности его собственных усилий. Купив индульгенцию у представителя папы, человек освобождался от временного наказания, которое, как считалось, заменяло наказание вечное, и как указывал Р. Зееберг, индивид имел все основания ожидать, что ему будут отпущены все грехи.
На первый взгляд может показаться, что эта практика покупки у папы освобождения от наказания в чистилище противоречила идее пользы собственных усилий человека для достижения спасения, поскольку предполагала зависимость от власти церкви и ее таинств. Однако, хотя до некоторой степени это верно, верно и то, что она подавала надежду и дарила уверенность; если можно было так легко избавиться от наказания, то бремя вины существенно облегчалось. Человек мог освободиться от груза прошлого с относительной легкостью и избавиться от преследующей его тревоги. Кроме того, не следует забывать, что согласно явному или подразумеваемому учению церкви, предпосылками действенности индульгенции были раскаяние и исповедь человека.