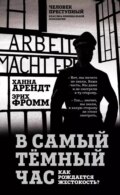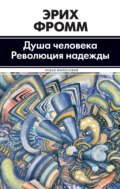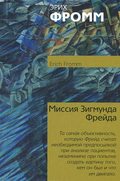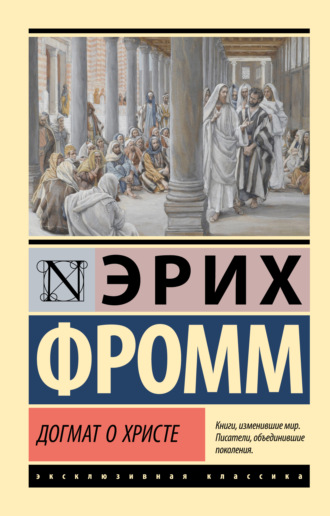
Эрих Фромм
Догмат о Христе и другие эссе
3. Раннее христианство и его идея Иисуса
Любую попытку разобраться в истоках христианства необходимо начинать с изучения экономической, социальной, культурной и психической ситуации его первых последователей[9]. Палестина входила в состав Римской империи и была заложницей условий ее экономического и социального развития. Августинский принципат обозначил конец господства феодальной олигархии и способствовал торжеству городского гражданского населения. Увеличение объема международной торговли никак не улучшило положения широких народных масс, не способствовало удовлетворению их повседневных нужд; в нем была заинтересована лишь тонкая прослойка владетельного класса. Крупные города в беспрецедентных количествах наводнил безработный и голодный пролетариат. Из всех городов за исключением Рима, в Иерусалиме пролетариат такого типа был наиболее многочисленным. Ремесленники, которые обычно работали только на дому и по большей части принадлежали к пролетариату, с легкостью нашли точки соприкосновения с нищими, разнорабочими и крестьянами. И в самом деле, иерусалимские пролетарии находились даже в худшем положении, нежели римские. Они не обладали гражданскими правами римлян, а императоры не удовлетворяли их насущных физических и духовных потребностей ни щедрой раздачей зерна, ни изощренными играми и зрелищами.
Сельское население было измучено бременем необычайно высоких налогов и либо попадало в долговое рабство, либо, как случалось с мелкими фермерами, вовсе теряло средства производства или свои небольшие землевладения. Одни из этих фермеров пополнили ряды городского пролетариата Иерусалима; другие обратились к отчаянным средствам, таким как кровопролитные политические восстания или грабежи. Над этим обедневшим и отчаявшимся пролетариатом возвысился в Иерусалиме, как и по всей Римской империи, средний экономический класс, хоть и страдавший от римского давления, но, тем не менее, экономически стабильный. Еще выше этой группы располагался малочисленный, но могущественный и влиятельный класс феодальной, духовной и денежной аристократии. Существенный экономический раскол внутри палестинского населения сопровождала и социальная дифференциация. Политическими и религиозными группами, представлявшими эти различия, были фарисеи, саддукеи и ам-хаарец. Саддукеи принадлежали к богатому высшему классу: «Последователи [их] учения немногочисленны, но все это люди высочайшего положения»[10].
Хотя на стороне саддукеев – богачи, Иосиф не находит в их манерах аристократизма: «Отношения же саддукеев между собою суровее и грубее; и даже со своими единомышленниками они обращаются как с чужими»[11].
Под этим небольшим феодальным высшим классом находились фарисеи, представлявшие городское население среднего и более мелкого уровня. «Фарисеи сильно преданы друг другу и, действуя соединенными силами, стремятся к общему благу»[12].
Фарисеи же ведут простой образ жизни и презирают изысканную пищу; они следуют голосу рассудка и делают то, что он считает для них благом, полагая, что должно стремиться к тому, чтобы всегда применять на практике предписания рассудка. Также они почтительно относятся к пожилым и не осмеливаются противоречить введенным ими обычаям. Несмотря на то, что, по мнению фарисеев, все происходящее свершается по воле судьбы, они не отнимают у человека свободы действовать, как он почитает нужным, поскольку считают, что по желанию Бога все события должны решаться отчасти волею судьбы, отчасти волею людей, которые действуют либо добродетельно, либо порочно. Также они верят, что душа имеет в себе бессмертную силу и что после смерти ожидают их награды или наказания согласно тому, добродетельно ли или порочно прожили они земную жизнь; последние будут подвергнуты вечному заточению, а первые смогут воскреснуть и жить снова. Благодаря этим своим учениям они имеют великое влияние на народную массу и все обряды, связанные с богослужением, молитвами или жертвоприношениями, происходят согласно их указаниям[13].
В описании Флавия средний класс фарисеев видится более однородным, чем на самом деле. Среди последователей фарисейства были те, кто происходил из низшей пролетарской прослойки и своим образом жизни поддерживал связь с нею (например, рабби Акиба). Однако были среди них также и представители состоятельного городского населения. Эти социальные различия находили разные способы выражения, наиболее явные – в политических разногласиях внутри фарисейства касательно их отношения к римскому владычеству и революционным движениям.
Нижний слой городского люмпен-пролетариата и эксплуатируемых крестьян, так называемый ам-хаарец (буквально – «народ земли»), находились в жестокой оппозиции с фарисеями и их широким кругом последователей. На самом деле, экономические перемены совершенно выбили почву у них из-под ног; терять этим людям было нечего, но добиться чего-то они, возможно, могли. Экономически и социально они находились за чертой еврейского общества, интегрированного в Римскую империю. Они не следовали учению фарисеев и не почитали их; они ненавидели фарисеев и были, в свою очередь, презираемы ими. Абсолютно характерно для такого отношения заявление Акибы, одного из наиболее именитых фарисеев, который сам происходил из пролетариата: «Когда я был еще простым [невежественным] человеком из ам-хаарец, я говаривал: «Попадись мне в руки ученый, я укусил бы его, будто осёл»[14]. Талмуд продолжает: «Рабби, скажи “будто собака”, ведь осёл не кусается», а он парирует: “Когда осёл кусает, он обычно ломает жертве кости, а собака прокусывает лишь плоть”». В той же части Талмуда мы находим ряд заявлений, описывающих отношения между фарисеями и ам-хаарец.
Человеку следует продать все свое имущество и обеспечить себе брак с дочерью ученого, а если он не может добиться дочери ученого, ему следует попытаться добиться дочери именитого человека. Если и в этом он не преуспеет, ему следует попробовать добиться дочери главы синагоги, а если не удастся, то дочери сборщика пожертвований, а если не выйдет и это, то дочери учителя начальной школы. Ему следует избегать брака с дочерью простого человека [из ам-хаарец], ибо это гнусность, их женщины омерзительны, и об их дочерях говорят: «Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом!» (Втор. 27)
Или вот слова рабби Иоханана:
Простого человека дозволено порвать на куски, будто рыбину. … Тот, кто отдает свою дочь в жены простому человеку, все равно что заковывает ее в кандалы перед логовом льва, ибо как лев разорвет и поглотит жертву без стыда, так и простой человек возляжет с нею жестоко и бесстыдно.
Рабби Элиэзер говорит:
Если бы простые люди не нуждались в нас по причинам экономическим, они давным-давно перебили бы нас. … Враждебность простого человека к ученому сильнее даже ненависти язычников к израильтянам. … Вот шесть истин о простом человеке: нельзя полагаться на свидетельство простого человека или принимать от него доказательства, нельзя делиться с ним тайною, нельзя оставлять на его попечении сироту, нельзя доверять его надзору благотворительные фонды, нельзя путешествовать в его компании и нельзя рассказывать ему, если вам случилось что-то потерять[15].
Изложенные выше суждения (которых можно найти еще огромное множество) принадлежат членам фарисейских кругов и демонстрируют, сколь нетерпимо они относились к ам-хаарец, но также с каким пылом простые люди, должно быть, ненавидели ученых и их последователей[16].
Описание противоречий в палестинском иудействе между аристократией, средними классами и их интеллектуальными лидерами с одной стороны и городским и сельским пролетариатом – с другой, потребовалось нам для того, чтобы прояснить глубинные причины таких политических и религиозных революционных движений, как раннее христианство. Более подробного рассмотрения различий внутри необычайно раздробленного фарисейства цели данного исследования не требуют, и оно увело бы нас слишком далеко от темы. Конфликты между средним классом и пролетариатом, равно как и внутри самой фарисейской группы, обострялись по мере усиления римского гнета, который разорял и лишал опоры низшие классы. Вместе с тем усиливалась среди низших классов поддержка национальных, социальных и религиозных революционных движений.
Революционные порывы масс нашли две разные отдушины: во-первых, в попытках политического восстания и освобождения, направленных против их собственной аристократии и римлян, во-вторых, во всякого рода религиозно-мессианских движениях. Однако между этими двумя проекциями стремления к освобождению и спасению отнюдь не существует четкой границы; часто они сливаются одна с другой. Сами мессианские движения принимали отчасти практические, а отчасти лишь художественные формы.
Здесь следует кратко упомянуть самые важные движения такого рода.
Незадолго до смерти Ирода, то есть в тот период, когда народ вдобавок к римскому владычеству подвергался угнетению со стороны иудейских наместников, служивших Риму, в Иерусалиме произошло народное восстание под предводительством двух книжников-фарисеев, во время которого был уничтожен римский орел у входа в храм. Зачинщиков казнили, главарей заговора – сожгли заживо. После смерти Ирода народные массы устроили демонстрацию, требуя от его преемника Архелая освободить политических заключенных, упразднить рыночный налог и снизить ежегодные подати. Эти требования удовлетворены не были. Масштабная народная демонстрация, связанная с этими событиями, в 4 году до н. э. встретила кровавый отпор, тысячи демонстрантов были убиты солдатами. Однако движение продолжило набирать силу. Народный бунт нарастал. Через семь недель в Иерусалиме он вылился в новые кровавые стычки с Римом. Вдобавок поднялось и деревенское население. В давнем центре смуты, Галилее, то и дело случались столкновения с римлянами, в Заиорданье кипели мятежи. Бывший пастух собрал войско из добровольцев и вел партизанскую войну против римских солдат.
Такова была ситуация в четвертом году до нашей эры. Римлянам оказалось нелегко справиться с бунтующими массами. Свою победу они ознаменовали распятием двух тысяч заключенных-революционеров.
На несколько лет волнения утихли. Но вскоре после того, как в 6 году н. э. в стране внедрили прямое римское управление, которое начало свою деятельность с переписи населения для налоговых целей, зародилось новое революционное движение. При этом между низшим и средним классами случился раскол. Хотя десятью годами ранее фарисеи поддерживали бунт, теперь пропасть между городскими и сельскими революционными группами с одной стороны и фарисеями – с другой, расширилась. Городской и сельский низшие классы объединились в новую партию, называемую зелотами, а средний класс под предводительством фарисеев был готов налаживать отношения с Римом. По мере того, как тяжелело ярмо Рима и еврейской аристократии, отчаяние масс росло, и в движение зелотов вливались новые последователи. Еще до того, как разгорелось масштабное восстание против римлян, постоянно происходили столкновения между народом и правительством. Поводами для революционных вспышек были частые попытки римлян водрузить в иерусалимском храме статую Цезаря или римского орла. Возмущение этими мерами, на поверхности объяснявшееся религиозными причинами, в реальности вырастало из ненависти масс к императору как предводителю и главе правящего класса, который их эксплуатировал. Специфика этой ненависти станет более ясной, если мы вспомним, что в ту эпоху благоговение перед римским императором все шире распространялось по империи, а культ императора почти превратился в доминирующую религию.
Чем безнадежней становилась борьба против Рима на уровне политики и чем охотнее средний класс склонялся к компромиссу с Римом, тем более радикализовывались низы общества; но одновременно с этим революционные тенденции теряли политический характер и переходили на уровень религиозных фантазий и мессианских идей. Например, лжемессия Февда обещал людям, что поведет их к Иордану и повторит чудо Моисея. Евреи пройдут через реку сухими, а преследователи-римляне утонут. Римляне увидели в этих фантазиях выражение опасных революционных стремлений; они обезглавили Февду и убили его последователей. Но он оказался не единственным. Иосиф рассказывает о мятеже, произошедшем в период правления прокуратора Феликса (52–60 гг.). Предводители восстания
…под видом воинственного вдохновения стремились к перевороту и мятежам, туманили народ безумными представлениями, манили его за собою в пустыни, чтобы там показать ему чудесные знамения его освобождения. Феликс усмотрел в этом семя восстания и выслал против них тяжеловооруженных всадников и пехоту, которые убивали их толпами.
Еще более злым бичом для иудеев был лжепророк из Египта. В Иудею прибыл какой-то обманщик, который выдал себя за пророка и действительно прослыл за небесного посланника. Он собрал вокруг себя около тридцати тысяч заблужденных, выступил с ними из пустыни на так называемую Елеонскую гору, откуда он намеревался насильственно вторгнуться в Иерусалим[17].
Римское войско учинило скорую расправу над ордами революционеров. Большинство были убиты или заключены в тюрьму, остальные рассеялись сами, попытавшись укрыться по домам. Тем не менее, восстания продолжались:
Едва потушена была эта вспышка, как появилась другая, точно в больном организме воспаление переходит с одной части на другую. Обманщики и разбойники [т. е. мессиански и политически настроенные революционеры] соединились на общее дело. Многих они склонили к отпадению, воодушевляя их на войну за освобождение, другим же, подчинявшимся римскому владычеству, они грозили смертью, заявляя открыто, что те, которые добровольно предпочитают рабство, должны быть принуждены к свободе. Разделившись на группы, они рассеялись по всей стране, грабили дома облеченных властью лиц, а их самих убивали и сжигали целые деревни. Вся Иудея была полна их насилий, и с каждым днем эта война загоралась все сильнее[18].
Растущее угнетение низших классов нации повлекло за собой обострение конфликта между ними и менее притесняемым средним классом, в процессе которого народные массы все более радикализовывались. Левое крыло зелотов сформировало секретную группировку «сикариев» (носителей кинжалов), которые начали путем нападений и интриг оказывать террористическое давление на состоятельных граждан. Они безжалостно преследовали представителей высшего и среднего классов Иерусалима за умеренные взгляды; а также захватывали, грабили и сжигали дотла деревни, жители которых отказывались примкнуть к их революционным бандам. Пророки и лжемессии также не ослабляли агитационную деятельность среди простонародья.
Наконец в 66 году случился большой народный бунт против Рима. Поначалу его поддерживали и средний, и низший классы нации, которым удалось в ожесточенных сражениях одержать верх над римскими войсками. Первое время войну вели собственники и образованные люди, но они действовали недостаточно энергично и были склонны идти на компромисс. Поэтому первый год окончился неудачей, несмотря на несколько побед, и массы приписали несчастливый исход войны слабому и равнодушному предводительству на раннем этапе. Их вожди всеми возможными способами попытались захватить власть и поставить себя на место существующих лидеров. Последние не согласились сдать позиции добровольно, и зимой 67–68 гг. разразилась «кровавая гражданская война и отвратительные зрелища, какими может похвастаться лишь Французская революция»[19]. Чем более безнадежной становилась ситуация, тем активнее средние классы искали возможности компромисса с римлянами; в результате гражданская война все ожесточалась, сливаясь с борьбой против иноземного врага[20].
В то время как рабби Иоханан бен Заккай, один из предводителей фарисеев, отправился к врагу и заключил с ним мир, мелкие торговцы, ремесленники и крестьяне с великим героизмом защищали город от римлян в течение пяти месяцев. Терять им было нечего, но и выигрывать уже нечего, так как борьба против римской власти оказалась бесполезной и неминуемо двигалась к поражению. Многие из состоятельных горожан сумели обезопасить себя, перейдя на сторону Рима, и хотя Тит был весьма озлоблен против оставшихся евреев, он все же принял тех, кто спасался бегством. В то самое время вооруженный народ Иерусалима штурмом взял царский дворец, где укрывались многие зажиточные евреи со своими драгоценностями, разграбил сокровища и убил владельцев. Римская война, как и гражданская, окончилась победой римлян, ознаменовавшей победу правящей иудейской верхушки и крушение надежд сотни тысяч иудейских крестьян и представителей городских низших классов[21].
Политическая и социальная борьба, а также окрашенные мессианством попытки революции сопровождались появлением народных текстов, которые были написаны в тот период и вдохновлялись теми же тенденциями, а именно апокалиптической литературы. Несмотря на ее разнообразие, образ будущего в этой апокалиптической литературе сравнительно однороден. Первым знамением станут так называемые болезни (Марк 13:7, 8), которые не потревожат «избранных» – голод, землетрясения, эпидемии и войны. Потом – предсказанное в начале двенадцатой главы Книги пророка Даниила «время тяжкое», какого не бывало с самого сотворения мира, пугающая пора страданий и тревог. Вся апокалиптическая литература в целом пронизана верой в то, что избранные будут ограждены и от этого несчастья. Мерзость запустения, предсказанная в стихах 9:27, 11:31 и 12:11 Книги пророка Даниила, станет последним знамением конца. Картина конца света несет в себе старые пророческие черты. Кульминацией его станет появление Сына Человеческого среди облаков в великом сиянии и славе[22].
Как и в случае борьбы с Римом, в которой каждый класс участвовал по-своему, апокалиптические сочинения у разных классов тоже появлялись свои. Несмотря на частичное единодушие, этот факт явно выражен в разнице акцентов на отдельных элементах разнообразных апокалиптических текстов. Провести подробный анализ здесь невозможно, однако мы можем процитировать воззвание из заключительных глав Книги Еноха, выражающее те же революционные тенденции, что вдохновляли левое крыло защитников Иерусалима:
Горе тем, кто возводит дом свой на грехе; ибо он будет разрушен до основания, а они падут от меча. Те же, кто копит золото и серебро, на суде погибнут внезапно. Горе вам, богачи, ибо вы положились на свое богатство и вас оторвут от него, ибо вы не вспомнили Всевышнего во дни своего богатства. … Горе вам, кто воздает ближнему злом, ибо вам воздастся по трудам вашим. Горе лжесвидетелям. …Не бойтесь, страдающие, ибо вашей долей будет исцеление: яркий свет воссияет, и с небес вы услышите глас утешения (Енох 94–96).
Помимо этих религиозно-мессианских, социополитических и литературных движений, характерных для периода подъема христианства, необходимо упомянуть и другое движение, в котором политические устремления не играли никакой роли и которое непосредственно вело к христианству, а именно движение Иоанна Крестителя. Он вызвал пылкий отклик у народных масс. Высший же класс, независимо от убеждений, им абсолютно не интересовался. Самые внимательные его слушатели принадлежали к числу презренных простолюдинов[23]. Он проповедовал близость Царствия Небесного и судного дня, который принесет избавление праведным и горе злодеям. Главной мыслью его проповедей было: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Чтобы понять, в чем заключался психологический смысл веры первых христиан во Христа – а именно в этом основная цель настоящего исследования, – нам необходимо было представить себе, что за люди поддерживали христианство в период его становления. То были массы необразованных бедняков, пролетариат Иерусалима, а также крестьяне из глубинки, которые из-за усиления политического и экономического гнета, а также из-за общественного притеснения и пренебрежения все острее желали переменить существующие условия. Они мечтали о счастливой жизни для себя, а также таили ненависть и жажду мести по отношению и к собственным правителям, и к римлянам. Мы рассмотрели то, какие разнообразные формы принимали эти тенденции: от политической борьбы против Рима до классовой борьбы в Иерусалиме, от несбыточных революционных устремлений Февды до движения Иоанна Крестителя и апокалиптической литературы. Перед нами предстали самые разные феномены – от политической деятельности до мессианских грез; однако за всеми этими различными явлениями стояла одна и та же мотивирующая сила: ненависть и надежда страдающего народа, порожденные горем и безвыходностью их социоэкономической ситуации. Независимо от того, какой характер носили их эсхатологические ожидания – социальный, политический или религиозный, – они захватывали их все сильнее по мере усиления гнета и были тем более пылкими, «чем глубже мы заглядываем в неграмотные массы, в так называемый ам-хаарец – круг тех, кто в настоящем знал лишь эксплуатацию и потому вынужден был обращать взгляд в будущее за исполнением всех своих желаний»[24].
Чем более призрачной становилась надежда на реальные улучшения, тем чаще ей приходилось искать выражение в фантазиях. Отчаянное последнее выступление зелотов против римлян и движение Иоанна Крестителя стали двумя крайностями, проистекавшими из одного источника: отчаяния низших классов. Характерной психологической чертой этой прослойки были надежда на смену условий (в психоаналитической интерпретации – на доброго отца, который им поможет) и в то же время горячая ненависть к угнетателям, нашедшая выход в чувствах, направленных против римского императора, фарисеев, богачей в целом, а также в фантазиях о наказании Судного дня. Мы наблюдаем здесь двойственную установку: в своем воображении эти люди любили доброго отца, помощника и избавителя, и ненавидели злого отца, который угнетал, мучил и презирал их.
Христианство выросло в исторически значимое мессианско-революционное движение именно из этой прослойки бедных, необразованных, революционно настроенных масс. Как и Иоанн Креститель, раннехристианское учение обращалось не к образованным и обеспеченным людям, а к беднякам, к угнетенным и страдальцам[25]. Цельс, критик христианства, рисует яркую картину социального состава христианского сообщества, которое он наблюдал почти двумя веками позже.
По его словам:
В частных домах также мы видим шерстобитов, башмачников, прачек, самых невежественных и провинциальных людей, кои не осмелились бы слова сказать в присутствии старших и своих более умных господ. Но стоит только им остаться наедине с детьми да в компании каких-нибудь глупых женщин, как из них лезут всякие поразительные утверждения, к примеру, что дети должны слушать не отца и школьных учителей, а их одних; что те несут вздор и ни о чем не имеют понятия, что на самом деле ничего не знают и ничего хорошего сделать не могут, а заняты одной только пустой болтовней. А вот они-то, мол, сами одни лишь знают, как правильно жить, и если дети им поверят, то станут счастливыми и весь дом свой тоже осчастливят. И если в этот момент они увидят, что к ним идет учитель или кто-нибудь умный, или даже сам отец, самые опасливые из них тут же разбегаются во все стороны; а более лихие подзуживают детей взбунтоваться. Они нашептывают им, что в присутствии отца или учителей они не могут ничего объяснить детям, так как не желают связываться с глупыми и упрямыми учителями, ибо те совершенно испорчены, погрязли в безнравственности и подвергают детей наказаниям. Но если им хочется, они должны оставить отца и наставников и пойти вместе с женщинами и малышами, своими товарищами по играм, в шерстобойню, прачечную или башмачную мастерскую, чтобы там выучить совершенную истину. И такими речами они убеждают детей?[26]
Образ сторонников христианства, предлагаемый здесь Цельсом, характеризует не только их социальную, но и психическую ситуацию, их отвращение и ненависть к родительскому авторитету.
Каково же было содержание примитивной христианской идеи?[27]
На переднем ее плане стоят эсхатологические ожидания. Иисус проповедовал близость наступления Божьего Царства и учил людей рассматривать его действия как начало этого нового царства. Тем не менее,
окончательно царство наступит лишь тогда, когда он вернется во славе среди облаков небесных, дабы вершить суд. Иисус, по всей видимости, объявил о своем скором возвращении незадолго до смерти и утешил учеников при расставании, уверив их, что незамедлительно займет надмирное положение подле Господа.
Наставления Христа ученикам соответствующим образом окрашены предчувствием близости конца – однако точный день и час его наступления никому неведом. Вследствие этого важное место также занимает призыв к отречению от всех земных благ[28].
Условия допуска в царство – это, прежде всего, полный переворот в образе мышления, после которого человек отвергает все удовольствия этого мира, добровольно терпит лишения и выражает готовность расстаться со всем, что имеет, ради спасения души; во-вторых, это вера и упование на милость Божию, которой Он одаривает смиренных и бедняков, и, соответственно, непоколебимая уверенность в том, что Иисус – Мессия, избранный и призванный Богом осуществить Его царство на земле. Поэтому послание адресовано беднякам, страдальцам, голодным и жаждущим праведности… тем, кто стремится к исцелению и искуплению, и оно находит их готовыми к вступлению в… Царство Божие, в то время как самодовольных, богачей и тех, кто кичится своей добродетелью, ожидают обвинения в греховности и осуждение на вечные муки[29].
Возвещение того, что Царство Небесное приблизилось (Матфей 10:7), легло в основу самых первых проповедей. Именно оно возбуждало оживленную надежду в страдающих и угнетенных массах. Люди ощущали, что все близится к концу. Они верили, что до наступления новой эпохи христианство не успеет распространиться на всех язычников. Если надежды остальных групп тех же самых угнетенных масс были направлены на то, чтобы собственными усилиями способствовать политической и социальной революции, то взгляды ранних христиан были устремлены лишь на грандиозное событие – на чудесное наступление новой эпохи. В раннехристианском учении содержалась не программа экономических или социальных реформ, а блаженное обещание недалекого будущего, в котором бедняки станут богачами, голодные насытятся, а угнетенные обретут власть[30].