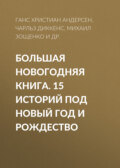Эрнст Теодор Амадей Гофман
Повелитель блох
Как ни велико было расстояние, отделявшее меня от моего коллеги, я тотчас же снарядился в путь и поспешил к нему. Меж тем он приостановил все свои операции над цветком, желая доставить мне удовольствие посмотреть на принцессу в том виде, как она открылась впервые его взгляду, а может быть, и опасаясь, как бы не попортить чего, работая на свой страх. Я сразу же убедился в полной правильности наблюдений моего коллеги и, так же как и он, твердо верил, что принцессу можно пробудить и возвратить ей прежний облик. Высокий дух, обитающий в нас, вскоре открыл нам верные средства к тому. Вы, друг мой Пепуш, понимаете очень мало, а в сущности, даже и вовсе ничего не понимаете в нашей науке, а потому было бы совершенно лишним описывать вам разнообразные операции, которые мы предприняли для достижения нашей цели. Достаточно вам сказать, что при помощи ловкого применения различных стекол, приготовленных по большей части мною самим, нам посчастливилось не только вынуть принцессу невредимой из цветочной пыли, но и вырастить ее так, что вскоре она достигла своего естественного роста. (Не хватало теперь ей только жизни, и возможность ее возвращения зависела от последней и самой трудной операции.) Мы отрази-ли ее образ посредством великолепного Куффова солнечного микроскопа и ловко отделили это изображение от белой стены безо всякого для него вреда. Едва только ее образ свободно поплыл в воздухе, он точно молния влетел в стекло, которое разбилось на тысячи кусков. Принцесса же стояла перед нами жива и невредима. Мы вскрикнули от радости, но каков же был наш ужас, когда мы заметили, что ее кровообращение остановилось как раз там, куда поцеловал ее принц пиявок. Она близка была уже к обмороку, как вдруг мы увидали, что в самом том местечке за левым ухом появилась маленькая черная точка и тут же опять исчезла. Кровообращение сразу восстановилось, принцесса пришла в себя, и наше дело увенчалось успехом.
Мы оба, я и мой уважаемый коллега, очень хорошо понимали, какое неоценимое сокровище представляет собой принцесса, и каждый из нас старался поэтому присвоить ее себе, полагая, что имеет на нее больше прав, чем другой. Коллега мой приводил тот довод, что тюльпан, в чашечке которого была найдена принцесса, был его собственностью и что он первый сделал открытие, которое сообщил мне, так что меня следует рассматривать лишь как помощника, не могущего претендовать на самое произведение как награду за подсобное участие в работе. Я, со своей стороны, настаивал, что я изобрел последнюю труднейшую операцию, которая вернула принцессе жизнь, и при выполнении ее мой коллега лишь помогал, почему, хотя бы он даже имел право на владение эмбрионом в цветочной пыли, живое существо принадлежит мне. Мы спорили много часов подряд, пока наконец, осипнув от крика, не пришли к полюбовному соглашению. Коллега предоставил мне принцессу, взамен чего я ему вручил одно очень важное и таинственное стекло. Вот это самое стекло и является причиной нашей теперешней непримиримой вражды. Мой коллега утверждает, что я обманным образом утаил это стекло; но это наглая, бесстыдная ложь, и хотя я действительно знаю, что стекло при вручении ему пропало, однако же могу честью и совестью заверить, что я в том не виновен и совершенно не понимаю, как это могло случиться. Да и стекло-то это вовсе не такое маленькое, разве что в восемь раз меньше порохового зернышка.
Видите, друг мой Пепуш, теперь я доверил вам всю мою тайну, теперь вы знаете, что Дертье Эльвердинк не кто иная, как возвращенная к жизни принцесса Гамахея, теперь вы понимаете, что простому смертному, как вы, такой высокий мистический союз вовсе не…
– Стойте, – перебил Георг Пепуш укротителя блох с несколько сатанинской улыбкой, – стойте, одно доверие стоит другого; так вот, со своей стороны могу открыться вам: все то, что вы мне рассказали, я уже знал раньше и лучше, чем вы. Не могу достаточно надивиться и вашей ограниченности, и вашему глупому самомнению. Узнайте же то, что вы давно должны были бы знать, если б не так плохо обстояло дело с вашей наукой, за исключением разве умения шлифовать стекла, узнайте, что я сам – не кто иной, как чертополох Цехерит, стоявший там, где принцесса Гамахея склонила свою голову, и о котором вы сочли нужным вовсе умолчать.
– Пепуш, в уме ли вы? – воскликнул укротитель блох. – Чертополох Цехерит цветет в далекой Индии – в той прекрасной долине, окруженной высокими горами, где собираются по временам мудрейшие маги мира. Архивариус Линдхорст может дать вам об этом самые точные сведения. И вы, которого я помню еще малышом в бархатной курточке, бегавшим в школу, которого я знал и иенским студентом, отощавшим, пожелтевшим от ученья и голода, вы заявляете, что вы – чертополох Цехерит! Рассказывайте это кому другому, а меня увольте.
– Какой же вы, – засмеялся Пепуш, – какой же вы мудрец, Левенгук! Ну, думайте о моей персоне что вам угодно, но не будьте же настолько глупы, не отрицайте, что чертополох Цехерит в то же самое мгновение, как коснулось его сладкое дыхание Гамахеи, расцвел пламенной, страстной любовью, когда же он прикоснулся к виску прелестной принцессы, то и она полюбила его в сладкой своей дремоте. Слишком поздно заметил чертополох принца пиявок, а то бы он мигом умертвил его своими колючками. И все-таки с помощью корня мандрагоры ему удалось бы вернуть принцессу к жизни, не явись тут этот несуразный гений Тетель со своими неуклюжими попытками спасти ее. Правда и то, что в гневе Тетель запустил руку в солонку, которую он во время путешествий носил за поясом, как Пантагрюэль свою кадку с пряностями, и бросил в принца пиявок добрую пригоршню соли, но уже совершенная ложь, что он его тем умертвил. Вся соль попала в тину, ни одно ее зернышко не коснулось принца пиявок, которого умертвил чертополох Цехерит своими колючками, тем отомстил за смерть принцессы и обрек самого себя на смерть. Один только гений Тетель, вмешавшийся в дело, которое вовсе его не касалось, виноват в том, что принцесса так долго покоилась в цветочной пыли; чертополох Цехерит очнулся гораздо раньше. Ибо смерть их обоих была лишь оцепенением цветочного сна, от коего они должны были вновь пробудиться к жизни, хотя и в другом образе. И вы преисполните меру всех ваших грубых заблуждений, ежели вздумаете полагать, будто принцесса Гамахея была точь-в-точь такова, какова теперь Дертье Эльвердинк, и будто вы, и никто иной, возвратили ей жизнь. С вами случилось то же, мой добрейший Левенгук, что с неловким слугой в поистине примечательной истории о трех апельсинах, который освободил из них двух дев, не озаботившись предварительно средствами поддержать их жизнь, почему они и погибли на его глазах самым жалостным образом. Нет, не вы, а тот, кто бежал от вас и чью потерю вы так сильно чувствуете и оплакиваете, вот кто довершил дело, так неловко вами начатое.
– А, – совершенно вне себя возопил укротитель блох, – а, мое предчувствие! Но вы-то, Пепуш, вы, которому я сделал столько добра, вы оказываетесь моим злейшим, жесточайшим врагом, я вижу это ясно. Вместо того чтобы дать мне совет, вместо того чтобы помочь в моем несчастье, вы угощаете меня какой-то неуместной дурацкой белибердой.
– Да падет эта белиберда на вашу голову, – вскричал Пепуш в совершенной ярости, – вы еще раскаетесь, да будет поздно, самонадеянный шарлатан! Иду искать Дертье Эльвердинк. А чтобы вы больше не дурачили честных людей…
И Пепуш схватился за винт, приводивший в движение весь механизм микроскопа.
– Убейте лучше меня на месте! – взревел укротитель блох, но в это мгновение все затрещало, и укротитель без чувств повалился на землю.
«Почему такой, – говорил себе Георг Пепуш, вышедши на улицу, – почему такой человек, имеющий прекрасную теплую комнату и мягкую постель, вдруг рыскает по улицам ночью в дикую бурю и дождь? Потому что он забыл ключ от дома и вдобавок еще его влечет любовь и сумасбродное желание». Так должен был он ответить самому себе. Действительно, все предприятие его показалось ему теперь сущим сумасбродством. Он вспомнил мгновение, когда в первый раз увидел Дертье Эльвердинк.
Несколько лет тому назад укротитель блох давал свои представления в Берлине и пользовался немалым успехом, пока они привлекали своей новизной. Вскоре, однако, публика пресытилась зрелищем ученых и муштрованных блох, портняжная, шорная, седельная, оружейная работа на столь маленьких персон перестала казаться уж такой удивительной – хотя сначала много толковали о непостижимости, даже о волшебстве всего этого, – и укротитель блох, казалось, был обречен на полное забвение. Но вдруг распространился слух, что какая-то племянница укротителя, никогда до сих пор не показывавшаяся, стала присутствовать на представлениях. Племянница же эта такая красивая и очаровательная девица, да еще так прелестно наряжается, что и рассказать невозможно. Толпа молодых модников, которые, как первые скрипки в оркестре, задают тон всему обществу, устремилась на сеансы укротителя, и так как свет всегда ударяется в ту или другую крайность, то племянница укротителя вскоре прослыла невиданным чудом. Посещать укротителя блох стало признаком хорошего тона, кто не видал его племянницы, не мог принять участие в разговоре, дело укротителя пошло на лад. Никто не мог только примириться с именем Дертье, и так как в это самое время несравненная Бетман в роли королевы Голконды поражала всех высоким изяществом, неотразимой привлекательностью, женственной нежностью, какая только свойственна прекрасному полу, и казалась идеалом того несказанного обаяния, которым женское существо может обворожить всех и вся, то и голландку наименовали Алиной.
В это время прибыл в Берлин Георг Пепуш; красота племянницы Левенгука была предметом злободневных разговоров. Так и за общим столом гостиницы, где остановился Пепуш, только и говорили что о маленьком прелестном диве, восхищающем не только мужчин – старых и молодых, но даже и женщин. К Пепушу пристали с тем, чтобы он немедленно же отправлялся смотреть прекрасную голландку, если не хочет отстать от Берлина. Пепуш обладал раздражительным, меланхолическим темпераментом; в каждое наслаждение примешивался для него горький привкус, проистекающий, несомненно, из того черного стигийского ручейка, что струится сквозь всю нашу жизнь, и это делало его мрачным, замкнутым и часто несправедливым к окружающим. Понятно поэтому, что Пепуш был не большим охотником бегать за хорошенькими девушками, но как-никак он все-таки направил свои стопы к укротителю блох не столько ради опасного чуда, сколько желая убедиться в справедливости своего предвзятого мнения, что и здесь, как почти всегда в жизни, людей морочит лишь какое-то странное ослепление. Голландку он нашел очень красивой и миловидной, но, взирая на нее, не мог удержаться от самодовольной улыбки: его проницательность не обманула его, и он уже вперед догадался, что эта малютка могла вскружить лишь от природы расшатанную голову.
Красавица держала себя легко и непринужденно, как это свойственно лицам, получившим тончайшее светское воспитание, и прекрасно владела собой; эта милая крошка умела привлекать к себе и в то же время удерживать в границах деликатного обхождения толпу поклонников, осаждавшую ее со всех сторон; когда она с очаровательной кокетливостью доверчиво протягивала кончик своего пальца, у них не было духу схватить его.
На Пепуша как на незнакомца никто не обращал внимания, и он мог вдоволь насмотреться на красавицу. Но чем дольше он вглядывался в милое личико голландки, тем более пробуждалось в глубине его души какое-то глухое воспоминание, как будто он уже где-то ее видел, хотя и в совершенно другой обстановке и в ином одеянии, да и сам он будто имел тогда совсем иной облик. Тщетно старался он довести эти воспоминания до ясного сознания, хотя все более и более убеждался в том, что он действительно уже видел когда-то малютку. Кровь бросилась ему в лицо, когда вдруг наконец кто-то тихонько толкнул его и прошептал на ухо: «Ну что, господин философ, не правда ли, и вас порази-ла молния?» То был его сосед по обеденному столу в гостинице, которому он заявил, что считает этот поголовный экстаз за странное помешательство, которое так же быстро пройдет, как и возникло.
Тут Пепуш заметил, что, покуда он не спускал глаз с малютки, зал опустел и последние гости направлялись к выходу. Голландка только теперь, казалось, обратила на него внимание и приветливо ему поклонилась.
Голландка не выходила из головы Пепуша; целую ночь напролет терзался он в тщетных стараниях напасть на след забытого воспоминания. Он рассудил тогда совершенно справедливо, что только созерцание красавицы может навести его на забытый след, и не преминул на другой же день отправиться вновь к укротителю блох, а затем и в следующие дни по два, по три часа кряду глазел на прекрасную Дертье Эльвердинк.
Если человек не может отделаться от мысли о привлекательной женщине, так или иначе обратившей на себя его внимание, то он уже сделал первый шаг к любви; так и Пепуш, воображая, что он только старается доискаться до какого-то темного своего воспоминания, в сущности, был уже по уши влюблен в прекрасную голландку.
Кого теперь могли занимать блохи? Голландка одержала над ними блестящую победу, сосредоточив общее внимание на своей персоне. Укротитель блох сам чувствовал, что отныне он со своими блохами стал играть довольно глупую роль; поэтому он до поры до времени припрятал войско и придал иной вид своим представлениям, поручив в них главную роль уже своей прекрасной племяннице.
Ему пришла счастливая мысль устроить вечерние беседы, на которые публика абонировалась за довольно высокую плату. На этих вечерах он сначала показывал кое-какие любопытные оптические фокусы, а затем всецело предоставлял своей племяннице занимать общество. Красавица блистала в полной мере светскими дарованиями; малейшим перерывом в разговоре пользовалась она, чтобы увлечь общество своим пением, сама себе аккомпанируя на гитаре. Голос у нее был не сильный, манера не безупречная, часто даже неправильная, но нежность звука, ясность и чистота пения были в полной гармонии со всем ее прелестным существом; когда же из-под черных шелковых ресниц сиял на слушателей томный ее взор, как влажный лунный луч, не одно дыхание стеснялось в груди и замолкали тогда даже самые упрямые педанты.
На этих вечерних беседах Пепуш ревностно продолжал свои исследования, то есть глазел на голландку в течение двух часов, а затем покидал зал вместе с прочими посетителями.
Случилось, что однажды, стоя к голландке ближе, чем обыкновенно, он явственно услышал, как она произнесла, обращаясь к какому-то молодому человеку: «Скажите, кто это безжизненное привидение, которое каждый вечер часами не спускает с меня глаз, а затем исчезает, не проронив ни слова?»
Пепуш почувствовал себя глубоко оскорбленным и, вернувшись домой, так бесновался и шумел в своей комнате, что никто из друзей не узнал бы его в этом неистовом состоянии. Он клялся и божился, что никогда больше не взглянет на негодную голландку, однако не преминул на следующий же вечер в обычный час оказаться у Левенгука и глазеть на прекрасную Дертье еще упорнее, чем раньше, если только это возможно. Правда, уже на лестнице ему стало очень не по себе при мысли, что он подымается вдруг опять по той же лестнице, и недолго думая он принял мудрое решение держаться по крайней мере как можно дальше от этого соблазнительного существа. Действительно, он так и поступил, забившись в дальний угол зала; однако попытка потупить взор не удалась совершенно, и, как уже сказано, он смотрел прямо в глаза голландке еще пристальнее, чем прежде.
Он сам не знал, как это произошло, но Дертье Эльвердинк вдруг очутилась вплотную рядом с ним в углу.
Сладостной мелодией зазвучал ее голосок, когда она заговорила:
– Я не помню, чтобы я видела вас где-нибудь до Берлина, но почему же так много знакомого для меня в ваших чертах, во всем вашем облике? У меня такое чувство, будто в очень давние времена нас связывала тесная дружба, но было то в очень далекой стране и при каких-то особых, странных обстоятельствах. Прошу вас, выведите меня из этой неизвестности, и, если только меня не обманывает одно внешнее сходство, возобновим те дружественные отношения, которые, как дивный сон, покоятся в смутных моих воспоминаниях.
Престранно себя чувствовал господин Георг Пепуш при этих словах прекрасной голландки. Грудь его стеснилась, голова горела, а все тело затряслось как в лихорадке. Если это и означало, что господин Пепуш был влюблен по уши в голландку, то тут была все-таки и другая причина расстроенного состояния, лишившего его языка, да и разума. Только что Дертье Эльвердинк заговорила о том, что ей сдается, будто много лет назад она уже встречалась с ним, в его душе вдруг, словно как в волшебном фонаре, всплыла картина, и он увидел далекое, далекое прошлое, предшествовавшее даже тому времени, когда он впервые вкусил материнского молока, и в этом прошлом жил как он сам, так и Дертье Эльвердинк. В это мгновение как молния сверкнуло в нем воспоминание, которое напряженная работа мысли облекла наконец в ясный и отчетливый образ; воспоминание это состояло в том, что Дертье Эльвердинк – принцесса Гамахея, дочь короля Секакиса, которую он любил в те давние времена, когда был еще чертополохом Цехеритом. Хорошо, что он не стал особенно распространяться в обществе об этой мысли, а то, пожалуй, сочли бы его за сумасшедшего и посадили бы куда следует, хотя навязчивая идея помешанного может быть часто не чем иным, как иронией бытия, предшествовавшего настоящему.
– Но, боже мой, вы точно онемели! – проговорила малютка, дотронувшись своим маленьким пальчиком до груди Георга. Но из кончика ее пальца электрический ток проник до самого сердца Георга, и он очнулся от своего оцепенения. В экстазе схватил он руку малютки и осыпал ее горячими поцелуями, восклицая: «Небесное, божественное создание» – и т. д. Благосклонный читатель легко может вообразить все прочее, что восклицал господин Георг Пепуш в эту минуту.
Достаточно сказать, что малютка приняла любовные клятвы Георга так благосклонно, как только мог он желать, и роковая минута в углу Левенгукова зала породила взаимную любовь, которая сначала вознесла добрейшего Георга Пепуша до небес, а затем для разнообразия низвергла его в ад. Пепуш был темперамента меланхолического, да к тому же еще ворчлив и подозрителен, а поведение Дертье давало ему немало поводов для самой мелочной ревности. Но как раз эта-то ревность и подзадоривала лукавую Дертье, и ей доставляло особое удовольствие изобретать все новые способы, как бы помучить бедного Георга Пепуша.
Но все имеет свой предел, и давно подавляемая ярость Пепуша вырвалась наконец наружу. Однажды он поведал Дертье о тех чудесных временах, когда, будучи чертополохом Цехеритом, он так нежно любил прекрасную голландку, бывшую тогда дочерью короля Секакиса; он со всем пылом страсти доказывал, что уже борьба с принцем пиявок дала ему неоспоримейшее право на руку Дертье. Дертье Эльвердинк уверяла, что и она хорошо помнит то время, те их отношения и что воспоминание о них впервые вновь посетило ее душу, когда Пепуш взглянул на нее взглядом чертополоха. Малютка так вдохновенно, так мило говорила обо всех этих дивных вещах, о любви своей к чертополоху Цехериту, коему было предначертано судьбой учиться в Иене и затем вновь найти принцессу Гамахею в Берлине, что господин Георг Пепуш мнил себя в блаженном краю Эльдорадо. Нежная пара стояла у окна, и малютка не препятствовала влюбленному Пепушу обхватить ее стан рукой. В такой непринужденной позе болтали они друг с другом, потому что речи о чудесах Фамагусты перешли у них в самую ласковую болтовню. В эту минуту проходил мимо красивый гусарский офицер в новеньком с иголочки мундире и весьма приветливо поклонился малютке, знакомой ему по вечерним собраниям. Дертье стояла с полузакрытыми глазами, отворотив от улицы свою головку; трудно было предположить, чтобы она могла заметить офицера, но могущественны чары нового блестящего мундира! Встрепенулась ли малютка от многозначительного бряцания сабли о каменные плиты тротуара, но только она ясно и светло раскрыла свои глазки, высвободилась из объятий Георга, отворила окно, послала офицеру воздушный поцелуй и смотрела ему вслед, пока он не скрылся за углом.
– Гамахея, – вскричал совершенно вне себя чертополох Цехерит, – Гамахея, что же это такое? Ты издеваешься надо мной? Такова верность, в которой ты клялась твоему чертополоху?
Малютка повернулась к нему на каблуках и, разразившись громким смехом, воскликнула:
– Бросьте, бросьте, Георг! Если я и дочь достойного старого короля Секакиса, если вы чертополох Цехерит, но ведь и тот прелестный офицер не кто иной, как гений Тетель, который мне, по правде говоря, куда больше нравится, чем мрачный колючий чертополох.
Тут голландка порхнула за дверь, а Георг Пепуш, как и следовало ожидать, в состоянии неистового отчаяния бросился вниз по лестнице вон из дому, как будто за ним гналась тысяча чертей. Судьбе было угодно, чтобы на улице Георг встретил одного из своих друзей, выезжавшего из города в почтовой коляске.
– Стойте, я еду с вами! – воскликнул чертополох Цехерит, слетал домой, надел плащ, сунул в карман денег, отдал ключи от комнаты хозяйке, сел в коляску и укатил со своим другом.
Однако, несмотря на этот разрыв, любовь к прекрасной голландке вовсе не угасла в груди Георга; точно так же не мог он заставить себя отказаться от справедливых притязаний на руку и сердце Гамахеи, которые он заявлял в качестве чертополоха Цехерита. И он возобновил эти свои притязания, встретившись через несколько лет с Левенгуком в Гааге, а как он ревностно их отстаивал затем во Франкфурте, благосклонному читателю уже известно.
Безутешный, бегал господин Георг Пепуш ночью по улицам, как вдруг колеблющийся и необыкновенно яркий луч света, падавший сквозь щель в одной из ставен нижнего этажа большого дома, привлек его внимание. Он подумал, что в комнате пожар, и поэтому вспрыгнул на подоконник, ухватившись за оконную решетку, чтобы взглянуть внутрь. Его удивлению не было границ при виде того, что предстало его глазам.
Веселый яркий огонь пылал в камине, находившемся против самого окна; перед камином же сидела или, вернее, лежала в широком дедовском кресле, как ангел разряженная, маленькая голландка. Она, казалось, спала, в то время как очень старый высохший человек с очками на носу опустился перед огнем на колени и глядел в горшок, в котором варился, вероятно, какой-то напиток.
Пепуш хотел взобраться еще повыше, чтобы получше рассмотреть эту группу, но в ту же минуту почувствовал, что кто-то его схватил за ногу и с силой тащит вниз. Грубый голос воскликнул: «Попался, мошенник! Ну и хорош, гусь! В тюрьму его, негодяя!» То был ночной сторож, который, увидав, как Георг карабкался на окно, вообразил, что он хочет ворваться в дом с целью грабежа. Несмотря ни на какие протесты господина Георга Пепуша, сторож потащил его за собой при содействии подоспевшего дозора, и таким веселым манером его ночное странствие окончилось в караульной.