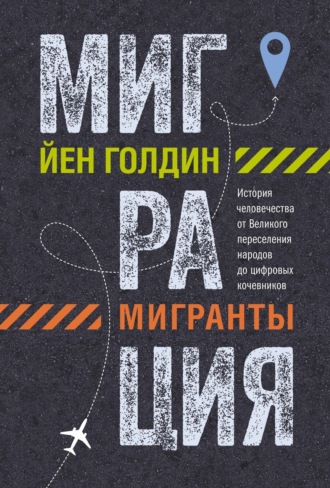
Йен Голдин
Миграция. Мигранты. История человечества от Великого переселения народов до цифровых кочевников
Неравный обмен
Общества в Африке и Евразии сделали ряд важных открытий раньше, чем население других частей света. Около 10 тысяч лет назад они первыми одомашнили скот – на несколько тысячелетий раньше, чем население Америки, – что в свою очередь дало им торговые преимущества. Благодаря развившейся тогда широкой сети обмена они получили возможность перенимать идеи и технологии, пришедшие издалека.
Столкновение с многочисленными болезнями, распространявшимися между людьми и животными, в некоторой степени обеспечивало как оседлое, так и кочевое население Африки и Евразии иммунитетом против заразных болезней, которые выкашивали других. Болезни, которые разносили мигрирующие работники, торговцы, паломники и солдаты, во многом были решающей силой в человеческих контактах на протяжении всей истории.
Генетические данные постепенно открывают информацию о социальной и гендерной иерархии, которая начала складываться много тысячелетий назад. Например, геномный анализ мужчин из Западной Евразии показывает, что они вступали в связь с женщинами ниже их по социальному статусу 2–4 тысячи лет назад, что формировало генетические различия, которые находят продолжение в современной кастовой и классовой иерархии [21].
Победителями в войнах прошлого не всегда становились армии, у которых было лучшее командование и вооружение, – довольно часто верх брали те, кто был способен заразить врага более опасными инфекциями[13].
Джаред Деймонд. Ружья, микробы и сталь

Статусное потребление: скифское золотое оплечье из царского кургана, датируется IV в. до н. э. (фото Д. Колосова)
Неравенство в прошлом можно увидеть также в монументальной архитектуре, величественных захоронениях и предметах роскоши – все это явно рассказывает о власти, социальном статусе и статусном потреблении, а также о том, кто в то время был главный. По огромной степи, что простирается от Северного Китая до Черного моря, разбросаны десятки тысяч скифских могильных холмов, показывая нам, сколь широким было влияние этих кочевников более 2 тысячелетий назад.
Охват империй
Чтобы построить самые большие, сохранившиеся до сегодняшних дней, памятники Древнего мира – египетские пирамиды или зиккураты в Месопотамии, – требовался труд, ресурсы и мощь оседлой цивилизации. Первые империи развились из более ранних городов-государств около 5 тысяч лет назад. Это Аккад, Ассирия, позднее Вавилон в Месопотамии, а также Египетское царство, достигшее пика имперской мощи в II тысячелетии до н. э. В последующие века возникали другие империи, в том числе Римская, а также Китайская, просуществовавшая гораздо дольше при нескольких династиях.
Эти империи разрастались и богатели, а вместе с тем контакты и торговля между ними становились более оживленными, причем их взаимоотношения формировались неодинаково и на неравных условиях. Джордж Спенсер указывает, что на рубеже эр «римлянам гораздо больше было нужно от Индии, чем индийцам от Рима» [22].
Все ранние империи, по сути, зависели от плодородных речных бассейнов, где образовывались существенные излишки сельскохозяйственной продукции. По мере совершенствования аграрных технологий росли и процветали и городские поселения, из-за чего экономика становилась более конкурентной и ресурсоемкой. Чем больше земли, тем больше нужно людей, чтобы ее обрабатывать. Все больше крестьян оказались вынуждены работать на полях, им не принадлежащих.
Империи породили новые формы миграции: работники, рабы и солдаты были вынуждены перемещаться на все более дальние расстояния. Спрос на сырье и предметы роскоши подстегивал развитие торговли между городами. К концу бронзового века торговые связи Ближнего Востока простирались от оловянных рудников в Атлантике до гончарных мастерских в долине Инда.
Возрастал спрос на новые типы товаров. Богатые люди хотели редких тканей, еды, специй и других ценных вещей, что стало главной мотивацией для открытия торговых путей. В самом деле, вплоть до XIX века значительная часть населения планеты не потребляла большей части того, что перевозилось. «Экзотику» покупала в основном элита.
Тем не менее торговля редкими товарами влияла далеко не только на людей, которые их производили, перевозили, продавали и покупали. Она затронула жизнь тех, кто встречал на пути и принимал у себя купцов, и тех, кто знакомился с новыми языками и культурами, которые приносили эти пришельцы.
Влияние империи ощущалось за многие тысячи километров. Самыми распространенными языками были греческий, латинский, китайский и, существенно позже, арабский – их можно было услышать очень далеко от мест их происхождения. Римские монеты, бывшие в ходу у купцов 2 тысячи лет назад, находят по всей Европе, в Северной Африке, на побережьях Персидского залива и в Индии, Шри-Ланке и еще восточнее, показывая, на сколь обширных территориях можно было услышать латынь.
У купцов и других путешественников, одолевающих эти удлиняющиеся маршруты, путь туда-обратно вполне мог занимать несколько лет. Несмотря на такие задержки, им удавалось «перевозить товары, устанавливать цены, договариваться о курсах обмена, заключать договоры, продлевать… кредиты, создавать партнерства, … вести записи и выполнять обязательства» [23].
Расстояния измерялись временем и считались в лучшем случае в неделях и месяцах.
Джанет Абу-Луход. До европейской гегемонии
Вслед за монетами
Первые известные нам монеты в Средиземноморском регионе чеканились около 600 г. до н. э. в Лидии, на территории современной Турции. Вслед за Лидией монеты стали производить многие близлежащие государства. Сегодня в различных собраниях, предположительно, находятся более 25 миллионов древнеримских монет.
Золотые монеты, отчеканенные во время правления Калигулы (37–41 гг. н. э.) и Нерона (54–68 гг. н. э.), найденные в Тамилнаде на юге Индии (Британский музей)
Они получили широкое распространение в торговле, их находили почти во всех странах Европы, Азии и Северной Африки. До европейских портов добирались и куда более древние ракушки из Тихого и Индийского океанов. По всей Евразии находят медные, бронзовые, серебряные и золотые монеты из Северного Китая, что демонстрирует факт торговли на больших расстояниях благодаря широко признанным системам денежного обращения на основании доверия и обязательства признавать эти обменные знаки между далекими друг от друга экономиками и культурами.
Шелк и караван-сараи

Пожалуй, самый известный торговый маршрут в истории человечества – Великий шелковый путь, длиной более 7000 километров, между долиной реки Хуанхэ в Восточном Китае и Средиземным морем. Возможно, более верным было бы название «Шелковые пути»: на самом деле это была огромная сеть дорог, троп и маленьких тропинок, связанных с сетями морской торговли.
Как показал британский историк Питер Франкопан, эти шелковые дороги с самого своего появления около 100 года до н. э. постоянно менялись по мере изменений климата, смены торговых интересов и военных вторжений. Со временем такие изобретения, как бумага или печатный станок, а также астрономические модели и новые виды карт рельефа стали еще больше облегчать передвижение и перевозки.
По этим маршрутам перевозили не только шелк. На запад отправлялись нефрит и другие драгоценные камни, фарфор и пряности в обмен на лошадей, стекло, ткани и другие товары, которые отправлялись на восток. В обоих направлениях путешествовали идеи и новые технологии. Печать, вероятно, появилась в буддийских монастырях Китая около 700 г. н. э., порох изобрели китайские даосские алхимики в IX веке.
Торговцы, авантюристы и путешественники могли всю жизнь провести на этом пути. В XIII веке, как пишет в своих подробных путевых записях Марко Поло, путешествие от Средиземного до Восточно-Китайского моря занимало около года, примерно половину этого времени – по дорогам в пределах Китая.
«Свозят сюда, как я вам рассказывал, самые богатые вещи, самой дорогой цены, да в таком обилии, как ни в какой другой город в свете; много здесь товаров продается и покупается. Каждый день, знайте, приезжает сюда более тысячи телег с шелком; ткутся тут сукна с золотом и шелковые материи» [24].
Марко Поло о Камбалу (Ханбалык), зимней столице Китая, ныне Пекин[14]
Караваны, шедшие по Шелковому пути, связывали население далеких друг от друга земель. Этот глобальный обмен способствовал росту крупных городов, таких как Сиань и Самарканд, а также более мелких поселений, оазисов и придорожных рынков, служивших узлами торгового, интеллектуального и культурного трафика. Путь был усеян караван-сараями – трактирами с большими дворами, где могли разместиться путешественники со своими животными, – что способствовало спонтанному обмену товарами, информацией и сплетнями в относительной безопасности, которую давали стены таких укрытий.
В более отдаленных местах устраивались временные ярмарки, куда стекались купцы, ковроткачи, писцы, цирюльники, починщики, – они перемещались от одного рынка к другому, обменивались товарами и услугами, ходили вдоль лотков со снедью и напитками. Мастера, ремесленники, земледельцы и другие местные жители приезжали с окрестных холмов и деревень на ослах и лошадях встречать путешественников.
С востока на запад, с юга на север
Через Индийский субконтинент шелковые пути были связаны с еще более обширными, чем на суше, морскими торговыми сетями. Индийский океан был еще одной «великой дорогой» для «миграции народов, для слияния культур и для экономического обмена» [25].
Сегодня мы привыкли слышать о «западном» влиянии, что отражает культурный шовинизм индустриальной эпохи, которая отсылает к классической культуре Греции и Рима. Но, как отмечает социолог из Америки Джанет Абу-Луход в своей книге «До европейской гегемонии», торговыми, образовательными и военными путями уже шел процесс «саутернизации», или, можно сказать, истернизации, берущий начало в Южной Азии во время расцвета могучего государства гуптов в Индии.
Такие обмены приводили к изменениям в культуре Азии, Среднего Востока, Африки, Средиземноморья и северо-запада Европы, «более или менее в таком порядке» примерно с IV века и вплоть до промышленной революции в XVIII веке, когда на первый план вновь вышла динамика вестернизации [26]. В это время в долине Инда окультурили хлопок, что в сочетании с появившимися в этом регионе техниками крашения привело к тому, что «к восемнадцатому веку Индия практически [одевала] весь мир» [27]. Тем временем по Индийскому океану между Южно-Китайским морем и Восточной Африкой, от Аравии до Малайского полуострова, рассекали моряки и купцы.

В «Книге путей и стран» перечислено множество народов, встречавшихся на шелковых путях и других торговых маршрутах, описаны их страны и обычаи. Книга была составлена в Багдаде в IX в. н. э. Ибн Хордадбехом (коллекция исламского искусства Насера Халили)
Многочисленные торговые корабли двигались по океану по трем приблизительно определенным маршрутам, отчасти под влиянием преобладающих и сезонных ветров. К северо-западу купцы из материковых городов, например Каира и Багдада, переправлялись через Красное море или Персидский залив, затем плыли вдоль западного побережья Индии. Некоторые из этих путешественников оседали в прибрежных городах, женились там, формируя диаспоры частично ассимилировавшихся мусульманских торговцев.
Наверное, самыми славными мореплавателями того периода были малайцы: оседлав муссоны, они под парусом отправлялись в края, не видимые с берега, несли свои языки и обычаи вплоть до Мадагаскара и закрепились в Красном море как торговцы пряностями [28].
Малайские мореплаватели умели передвигаться под парусом против ветра, лавируя по диагонали. На это обратили внимание люди, с которыми они торговали и общались, что вдохновило арабов и полинезийцев на собственные новшества, например на треугольный косой парус. Индийские купцы, возившие перец и корицу, селились на островах близ Красного моря, а грекоязычные моряки с муссонами прибывали в Индию.
Без должного знания моря и времен года «боковые ветра могли обездвижить корабль, движущийся на восток, на срок до года» [29]. Арабский мореплаватель ибн Маджид написал руководство для путешественников между побережьями Аравии и Индии. С конца XV века купцы и путешественники следовали его указаниям по определению розы ветров и направлений, советам о том, когда лучше ставить парус, информации о возможности остановиться. Руководства издавали и использовали также итальянские купцы, путешествовавшие между Китаем и Средиземноморьем по суше.
Они ориентировались по ветру и звездам, по форме облаков, цвету воды, характеру зыби и волнения на поверхности океана. Они могли узнать о близости к острову за тридцать миль до его берегов, наблюдая за поведением птиц и следя за подводной флорой и фауной.
Линда Шаффер. Саутернизация
Контакты между людьми с юга и запада Азии, а также Европы приводили к более широкому распространению некоторых языков, систем записи и мышления. Цифры, которыми пользуются европейцы, обычно известны как арабские, хотя сами арабы называют их индийскими, так как впервые они возникли в Индии.
Помимо своих систем расчета, купцы вместе со своими товарами распространяли религиозные верования и другие идеи. От южных гаваней Индийского субконтинента до Малаккского пролива, где проходил срединный торговый путь, ослабевало влияние мусульманства и больше распространялся индуизм. К востоку, в сторону Южно-Китайского моря и окружающих его островов было больше китайских моряков и купцов, которые исповедовали буддизм и конфуцианство.
Империя и религия
Самой очевидной мировой тенденцией в доколумбову эпоху было распространение исламской веры.
Линда Шаффер. Саутернизация
Империи и религии нередко развивались вместе. В VII веке арабские армии под исламским знаменем стремительно продвинулись вдоль восточного и южного берегов Средиземного моря, захватив Византию и другие территории. К концу правления Омейядского халифата в 750 г. н. э. эта новая исламская империя расширилась от столицы, Дамаска, на запад по североафриканскому побережью до Пиренейских гор на западе современной Испании и на восток по Аравийскому полуострову до нынешних Пакистана и Афганистана.
В последующие столетия, когда центры влияния в исламском мире перемещались в разные регионы, а власть переходила между династиями Аббасидов, Фатимидов, Айюбидов, Мамлюков, Сефевидов и Османов, большинству торговцев в мире приходилось в какой-то момент сталкиваться с мусульманами или проходить через их территории. По словам одного географа X века, Ирак стал «самой процветающей исламской страной» и «пристанищем купцов» [30].
Самим европейским купцам было запрещено передвигаться через мусульманские страны, из-за чего им было трудно без посторонней помощи добираться до Индии и Китая, и они зачастую были вынуждены платить за услуги местных посредников. Мусульманам же, напротив, не просто не мешали путешествовать, а это было частью их религиозных обязанностей.
С 632 года н. э., когда пророк Мухаммед совершил хадж, в Мекку ежегодно стали отправляться сначала сотни, а потом и тысячи паломников (в 2023 году это путешествие совершили почти 1 миллион 900 тысяч мусульман). С самого начала люди отправлялись туда из Марокко или Сибири, преодолевая огромные расстояния по суше или по морю – из Индии, с Филиппинских островов и еще более дальних краев.
Путникам облегчала дорогу инфраструктура шелковых путей и других оживленных маршрутов, но тем не менее множество людей погибали на этом пути. При этом Патрик Мэннинг отмечает, что этот паломнический путь «свидетельствует о том, что в те века люди любого общественного положения могли путешествовать на дальние расстояния, чтобы выполнить религиозный долг, а затем вернуться домой» [31].

Современные «арабские» цифры по пути из Азии на запад видоизменились
Завоевание, злаки и контроль
Несмотря на религиозные различия и вялотекущие конфликты, торговля между разными империями не только продолжалась, но и процветала. В результате арабских завоеваний препятствий и угроз для торговли в целом стало меньше, купцы и другие мигранты познакомились с обычаями далеких земель, которые впоследствии были восприняты в других местах.
В Средиземноморье появились новые продукты. В Европе сельское хозяйство было по большей части сезонным, основой служили монокультуры, а такие восточные растения, как рис, сахарный тростник, мангольд, баклажан и шпинат, можно было выращивать в более теплых южных районах раньше, летом, и они становились дополнением к традиционному осеннему урожаю, что позволяло земледельцам более интенсивно использовать землю в течение всего года. Английские названия многих продуктов, принесенных в те времена в Европу: артишок, лимон, шафран, шпинат – происходят от арабских слов.

Великая мечеть Укба в Кайруане, Тунис, построенная Омейядами в 670 году, – самая древняя сохранившаяся мечеть на мусульманском Западе
С XI по XIV век важными базами для парусных судов, связывавших Европу с Северной Африкой и динамичными экономиками Востока, стали портовые города Венеция и Генуя. Средиземное море в те времена было скорее «арабским, чем европейским морем» [32]. Даже золотые монеты, которые были в ходу у европейских купцов, чеканились в Константинополе и Александрии.
Государства, империи и кочевые сообщества периодически захватывали контроль над оживленными караванными и морскими маршрутами, что позволяло им использовать в своих целях проходящих по этим маршрутам людей с их товарами и знаниями, а также собирать подати и пошлины. Купцы в Сирии, Ираке, Бахрейне и Омане и торговые поселения в Персии богатели за счет потока товаров через Персидский залив и по сухопутным дорогам, соединявшим Индийский субконтинент со Средиземноморьем.
В XIII веке после ряда жестоких военных походов огромные пространства суши, где проходили шелковые пути, были завоеваны Монгольской империей под управлением Чингисхана. В период своего расцвета это была империя с самой протяженной смежной территорией в истории.
Монголы установили жесткий контроль, позволивший им регулировать проход караванов и торговцев по шелковым путям. Они организовали регулярное патрулирование и ввели суровые наказания, благодаря чему на территориях, через которые проходили купцы, уменьшились масштабы разбоя и беспорядков. На негосударственном уровне местные жители могли охранять обозы с товарами, иногда за деньги. Кочевникам и некоторым скотоводам, обитавшим близ оживленных торговых путей, бывало выгоднее разорять обозы, чем торговать с купцами [33].
Болезнь и карантин
Все больше людей и животных перемещались на все более дальние расстояния, и вместе с ними переносились болезни. Шелковый путь и другие маршруты торговли и миграции в Евразии превратились в «один гигантский рассадник микробов»[3], когда по Центральной Азии и Европе перевозили «кишащий блохами пушной товар из зараженных областей»[4]. Распространению Черной смерти в XIV веке способствовали не только отдельные путешественники, но и передвижение имперских войск [34].
Болезнь выкашивала городское население, и люди передвигались из одних городов в другие в поисках работы. Однако во многих случаях путешественники подвергались стигме, так как ассоциировались с чумой, особенно в городах вроде Венеции, которые своей обширной торговлей были связаны с далекими странами. Когда приходили вести о приближении заразы, кораблям не давали войти в доки, закрывались границы, чужеземцев и чужестранцев отправляли восвояси.

В Венеции один из самых мелких островков использовался для размещения на карантин вновь прибывших во времена Черной смерти. Во время очередной вспышки чумы в 1420 году там появились первые лазареты – больницы, где изолировались заразившиеся чумой путешественники (Антонио Визентини, 1777 г.)
Понятие карантина распространилось в XIV веке в Италии. Когда бушевала Черная смерть, новоприбывших людей изолировали на quaranta, то есть сорок, дней, откуда и пошло слово «карантин». Известно, что во время осады генуэзского порта Кафа на Черном море в 1340-х годах монгольские воины играли на страхе европейцев перед инфекцией и забрасывали внутрь городских стен трупы и их части.
Возникнув в это время в Италии, magna pestilentia[5] продолжалась меньше десяти лет, но успела опустошить всю Европу. Полагают, что Черная смерть способствовала миграции и социальной мобильности в последующие годы, когда крестьян освободили от обязанностей перед феодалами и отпустили работать в других местах. Но в европейской культуре у чумы были и более мрачные последствия. Вплоть до сегодняшнего дня политики и медиа, призывающие ограничить миграцию и отказывать во въезде иностранцам, продолжают настаивать на связи мигрантов с болезнями.

«Уличный торговец» из серии гравюр Ганса Гольбейна «Пляска смерти» (1538 г.). Пандемия, начавшаяся с Черной смерти в 1340-е годы, в последующие века часто возвращалась в Европу и стала неразрывно ассоциироваться с путешественниками
Жители в панике садились на корабли, чтобы убежать от, казалось, неминуемой смерти.
Йоханнес Краузе, Томас Траппе. Краткая история человечества



