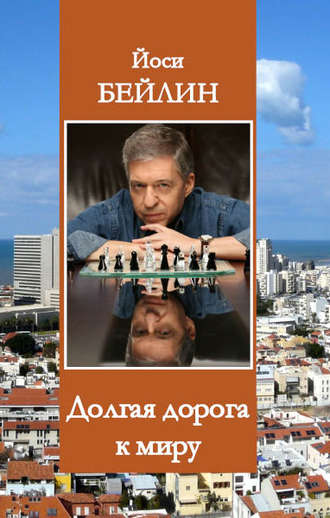
Йоси Бейлин
Долгая дорога к миру
Только в 27 лет я впервые попали за Гранину. Семейный отдых – и то не каждый год – заключался в поездке в район Бейт ха-Керем в Иерусалиме, там был чистый воздух. Мы снимали комнату в доме, в котором продолжала проживать семья его владельцев, мама также ходила в магазин, также покупала продукты и также готовила, как дома. Это называлось поездкой на отдых. В кино мы ходили, но очень мало и с неким угрызением совести за потраченные деньги. Концерты и спектакли посещали «пополам»: первое отделение смотрели мы с братом, на второе, по тем же билетам, заходили родители. Приходилось экономить, но любовь к искусству нам прививали.
Папа с мамой поженились после убийства Хаима Арлозорова, вызвавшего в еврейском ишуве большие политические споры[6]. Мама была уверена, что его убили ревизионисты – приверженцы Жаботинского, а папа считал, что еврей не мог этого сделать. Тогда они порешили между собой: во избежание семейных ссор никогда не касаться этой темы. Никто из них никогда в жизни не говорил мне, за кого голосует на выборах. Папа объяснил, что это – очень личное дело. Он не голосовал за Менахема Бегина[7], так как считал его антитезой Жаботинскому. В Жаботинском он видел в то время важного сионистского лидера, в Бегине – фашиста. В том, что он был приверженцем Бен-Гуриона, я ни на минуту не сомневаюсь.
При этом он был членом Гистадрута[8], но не был социалистом. Когда я в 1972 году рассказал ему, что вступил в партию Авода, его это расстроило. Я думаю, он был центристом с легким левым уклоном. Мама, как мне кажется, голосовала за МАПАЙ[9]. Моего старшего брата Инона политика не интересует вообще, ее для него не существует по опр е делению.
Пион старше меня на 11 лет, и с момента моего появления на свет добровольно взял на себя функции воспитателя. Он был мне маленьким отцом, а я его «хвостом». Несмотря на то, что нас связывают очень тесные отношения, я думаю, он сам до сих пор не догадывается, какое огромное влияние оказал на мое формирование. Он стал для меня тем человеком, которому я подражаю во всем – в манерах, жестах, вкусах. Он любит оперу, и я ее люблю, он любит французский шансон, и я его полюбил. Я ходил с ним к его друзьям и подругам. Пока мы жили вместе, он был моей радостью и гордостью. Мы никогда не ругались, кроме единственного случая, когда я случайно поломал его оловянного солдатика. Тогда он в первый и последний раз в жизни на меня накричал, и это было так странно, что я запомнил эту историю на всю жизнь. Когда мне исполнилось семь лет, Пиона призвали в армию. Я остался один, без человека, к которому обращался в первую очередь. Когда что-то надо было решать, единственным выходом стало задаваться вопросом, а как бы он сейчас поступил на моем месте, и это во многом определило мой характер и нормы, по которым я живу и сегодня. В армии он служил в бригаде «Нахаль», стал одним из основателей кибуца «Йответа» и почти не приезжал домой. Тогда добраться из Эйлата в Тель-Авив было, примерно, как сейчас слетать в Нью-Йорк. Я сходил с ума, а когда он приезжал, не отходил от него ни на шаг. А потом он уезжал, и я начинал дожидаться следующего приезда. Когда он демобилизовался, сразу уехал учиться в университет в Иерусалиме. И я его снова не видел.
Ездить в Иерусалим было тоже очень трудно, телефонов не было, так что для меня он будто остался в армии. Он приезжал иногда в конце недели и в один из таких приездов отвел меня в сторону и сказал, что женится. Я разрыдался.
Жениться он собирался на нашей соседке из дома напротив по имени Ализа. Она была его подругой еще с детского сада, и я каждый день видел ее из окна, а ее брат был моим близким Другом. Так что речь не шла о ком-то постороннем, но я воспринял это как трагедию. До этого я все время надеялся, что вот-вот получу его обратно – от армии, от университета, а тут понял, что от Ализы я его «обратно» не получу никогда, и это казалось ужасным. В декабре 1958 года они поженились, создав замечательную семью, любящую и очень сплоченную, а потом переехали в Иерусалим. Иной работал в министерстве связи и до выхода на пенсию в 2003 году руководил Службой почтовых марок. Он блестящий менеджер и мог бы занимать гораздо более высокие должности, но в марках он сочетал менеджмент с любовью к искусству, хотя сам при этом так и не стал филателистом. Он человек искусства и абсолютно не человек политики.
И он ни разу не пытался уговорить меня оставить это дело. Никогда. Он следит за моей политической деятельностью, очень за меня переживает, не пропускает ни одно мое выступление по телевидению, но с политикой не имеет ничего общего по определению. Пока он был на государственной службе, он, также как и родители, не признавался мне, за кого голосует. С выходом на пенсию он сказал, что голосует за партию МЕРЕЦ из-за меня. Более того, он даже стал членом этой партии, что, в первую очередь, смешно ему самому.
Но вернемся к тому времени, когда он пошел в армию, а я – в школу.
Я был послушным ребенком и мечтал научиться азбуке, но мама считала, что я должен сделать это только в первом классе, так как иначе мне в школе будет неинтересно. Знали бы вы, как я этого дожидался! Как только настал назначенный срок, я быстренько выучил буквы и налетел на домашнюю библиотеку, которая была в каждой комнате – от кабинета до спален. Это было раздолье. Я поглощал, не разбирая, книгу за книгой, полку за полкой. Домашней «цензуры» не было, никто не запрещал мне читать все то, что я хотел. Итогом этого дела стало то, что к восьми годам я прочитал «Войну и мир», и мне роман очень понравился. Правда, в книге «обнаружились» целые куски на французском языке, которого я не знал, что не помешало общему восприятию романа. Затем последовала «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Идиот». В общем, к 12 годам я был знаком с русской классикой в том объеме, который, наверное, позволил бы мне сдать на «отлично» экзамены по литературе и в средней московской школе.
Я учился в Тель-Авиве. Сначала в начальной школе «Эхад ха-ам», затем в гимназии «Герцлия». Весь этот период был очень интенсивным в моей жизни. Мне нравилось учиться. У меня не было ни секунды свободного времени. Я был вечно занятым ребенком и лучшим учеником, привыкшим слышать, что для меня не хватает существующей шкалы оценок. Моя методика заключалась в том, чтобы готовить задания к следующему уроку, поэтому я всегда все знал раньше других. Меня спрашивали тогда, когда никто другой в классе не мог ответить на поставленный вопрос. Такая, знаете, ходячая мечта любого преподавателя, любимцем которых я был, хотя никогда из-за этого не зазнавался.
Кроме того, что я сам постоянно чему-то учился, я еще все время учил других, организовывал кружки, помогал отстающим ученикам и учащимся младших классов. Это положительно влияло на мой статус среди сверстников, так как во мне все время нуждались. И я не страдал от отсутствия друзей. Со второго класса я публиковался в школьной газете, в шестом – стал чемпионом школы по шахматам. Призом для победителя была партия с директором школы, но он так и не согласился ее со мной сыграть, а я ведь только для этого и побеждал в том турнире…
В 12 лет меня приняли юным корреспондентом в молодежную редакцию радиостанции «Коль Исраэль»– «Голос Израиля». Я много выступал и испытывал от этого безумное удовольствие. Но мне этого было мало, и в 13 лет я решил исполнить свою мечту и стать корреспондентом по вопросам молодежи журнала «Маарив ле-ноар». Если радио все слушали, то «Маарив ле-ноар» все читали. С первого раза меня не взяли, и это была трагедия, но приняли через год, и это было счастье. Я писал все – статьи, стихи, рассказы. Я думаю, что большинство моих произведений отправляли в корзину, но я был неисправимым графоманом и продолжал писать еще больше. В 14 лет я был самым настоящим действующим журналистом. Одновременно я был также корреспондентом молодежной секции «Коль Исраэль», редактором гимназической газеты и приглашенным юным участником передач культурной редакции «взрослого» отделения «Голоса Израиля». Параллельно, еще в 13-летнем возрасте, я записался в молодежный кружок национального драматического театра «Габима». Театр, как шахматы и журналистика, привлекал меня всегда, но в «Габиму» до 14 лет не принимали. После длиннющего письма руководителю кружка меня приняли на год раньше. Работа в кружке велась в трех направлениях: мы ставили сцены и этюды, слушали лекции и участвовали в репетициях и спектаклях самой «Габимы». Самым интересным и большой привилегией для нас было посещение генеральных репетиций в театре накануне премьеры. Я по пять раз просмотрел все тогдашние спектакли. Мы были детьми театра и не только сами знали актеров, но и нас узнавали в лицо такие знаменитости того времени как Ровина, Мескин, Бертонов.
В гимназии я написал свою первую книгу, которая называется «Рамы и цвет». Это роман, который я сохранил для себя, никогда никому не показывал и не публиковал. Еще до того завершилось мое увлечение шахматами. Я часто посещал шахматный клуб «Ласкер». Там бывали люди, которые не вызывали особой симпатии, но которые без шахмат жизни своей не представляли. Для мальчика компания пенсионеров была не особенно привлекательной. Их вид меня несколько спугнул, и тогда я решил, что с этим надо кончать. И излечился – до такой степени, что десятилетиями после этого не прикасался к шахматной доске. Затем настала очередь театра. Я очень хотел быть актером, хотя не был уверен, что смогу им стать. Когда, как в шахматах, так и в актерской карьере я пришел к выводу, что смог бы быть хорошим театральным критиком, но не актером, я завершил и свой роман с театром. Хотя любовь к этому искусству сопровождает меня всю жизнь.
Когда мне было 9 лет, я влюбился в соседскую девочку. Это был период алии из Польши, с которой она и приехала вместе с родителями и поселилась рядом с нами. Она еще плохо знала иврит, и я с радостью вызвался ей помогать в обучении. Она была очень красивая, уже успела сняться в кино. Но она была на три года старше меня! В итоге мы стали хорошими друзьями, но она вряд ли вообще обращала внимания на мои чувства. Три года – это такая огромная разница в возрасте! Это было сродни влюбиться в Мэрилин Монро. Вскоре у нее появился ухажер, а потом она вышла замуж за известного израильского актера Исраэля Полякова. Потом они разошлись, она продолжила играть в кино, снова вышла замуж и уехала в Лондон. А моей первой подругой и серьезной любовью стала моя первая жена, Елена, с которой мы учились в одном классе в гимназии «Герцлия».
В 1963 году мы переехали из дома на улице Калишер. Мы оставили гнездо, в котором я рос, которым гордился, из которого черпал силы и которое связывало меня с дедушкой, которого я не знал, но ждал пять лет…
Родом из детства
Детство моего поколения проходило под знаком Катастрофы европейского еврейства. Для меня это были умалишенные на улицах, где я играл и по которым ходил в школу. Часть из них были бездомными. Один все время сидел на углу и постоянно что-то шил. Рядом с нами в маленькой комнатушке жила женщина, которую дети называли мадам Кецале[10], а она их гоняла палкой. Я всегда страшно боялся, что она погонится за мной, хотя и не припомню ни единого случая, чтобы она кого-то действительно ударила. Неподалеку жили портные, у которых починял одежду мой отец. Это были два брата-близнеца, возможно, из «близнецов Менгеле»[11]. В одном углу комнаты у них стояла швейная машина, в другом, за занавеской, они спали. Когда я спрашивал у взрослых, кто эти люди, мне отвечали, что они – «из Катастрофы». И я возненавидел Катастрофу, из-за которой на улице было много сумасшедших и бродяг. Они были тихими, никому не причиняли вреда, но это было страшно. А еще Катастрофа вошла в жизнь моего поколения через радиопередачу по поиску пропавших родственников. Я помню, она шла в эфир в полдень, когда я возвращался из детского сада, а потом уже со школы. Я слышал исполненные драматизма интонации диктора, медленно зачитывающего имена, и пугался еще больше. А еще на улице и в доме в любых ругательствах постоянно звучало имя Гитлера. Но кто он такой, мне неоткуда было узнать. Таким образом, с одной стороны, все детство проходило под знаком Катастрофы, с другой – информация была очень частичной, и это угнетало. Катастрофа была для меня чудовищем, породившим людей, которых я боялся, создавшим передачи, которые меня пугали.
Но настал переломный момент, когда мы начали понимать, о чем идет речь.
Моему поколению очень многое прояснил знаменитый процесс над Эйхманом[12]. Мы слушали судебные заседания по радио вместо уроков в школе. Это длилось часами. К тому времени я уже многое знал, но гораздо большее понял. В детстве я сделал умозаключение, что все это случилось далеко в Германии, где раньше жили плохие люди, а сейчас живут хорошие и что теперь существует иная Германия (раз так сказал Бен-Гурион). Когда я повзрослел, то понял, что весь ужас заключается в том, что Катастрофа вообще могла случиться, что это совершали люди, а не животные. Что люди, которые еще вчера были добрыми соседями и друзьями, назавтра способны доносить и убивать друг друга, и такие люди способны появиться в любой точке мира в любой исторический период. Ведь Германия до этого была одной из развитых европейских стран, родиной великих философов и музыкантов. Я понял, что Катастрофа внутри нас, что возможность превращения уничтожения людей в систему сидит в самом человеке. И пришел к выводу, что надо стремиться к созданию такого мира, в котором это заложенное в каждом из нас зло не сможет вырваться наружу ни при каких обстоятельствах.
И я действительно считаю, что это достижимо: путем образования, создания этических и культурных норм, достижения истинного равноправия. Это непростая схема. В любом случае она намного сложнее, чем отказываться приобретать продукты немецкого производства и думать, что таким путем мы побеждаем Катастрофу. Это самый простой и самый неверный путь. Проще всего не ездить в Германию и не говорить по-немецки, но это ничего не меняет. Я много думал об этом, когда в начале палестинской интифады Эль-Акса 2000 года произошло «линчевание», расправа над израильскими солдатами в Рамалле. Я не сомневаюсь, что совершившие его палестинские изверги и поддерживающая их бесноватая толпа в иной ситуации были вполне нормативными людьми. Они наверняка возвращались домой, ужинали с семьей, рассказывали женам, как прошел день. А в тот ужасный день среди прочего рассказали и том, как они разорвали на куски израильтян. Все – как у тех немцев, которые работали на рейх. Они ведь тоже не были носителями идеологии Гитлера. Люди на улице вряд ли вообще об этом задумывались. Вместе с тем, он смог выпустить на свободу дракона, который живет где-то в каждом из нас. И от этого никто не застрахован, даже евреи. Это не вопрос национальности или гражданства, хотя я думаю, что в части из нас пробудить такое будет сложнее.
И не обязательно из-за того, что евреи пережили Катастрофу. Из-за личных качеств каждого из нас. Вместе с тем, я считаю, что израильтяне могут быть как самыми цивилизованными и просвещенными, так и самыми жестокими людьми – в зависимости от того, что в них проснется, в зависимости от обстоятельств. О Германии нельзя сказать, что в канун Второй Мировой войны она была непросвещенной страной. И на вопрос, как это могло случиться именно там, существует единственный ответ: это универсально. Безумный лидер смог разжечь в немцах ту страшную искру, которая горела животным всепоглощающим пламенем в течение нескольких лет.
Моя мать – дочь «русских» сионистов, отец – выходец из «польской» религиозной семьи, я сам родился в Израиле в год основания государства, и родной язык у меня иврит. Какой ментальностью обладает такой ребенок? Было время, когда я думал, что израильской, даже не подозревая, что в нашем доме почти все было «русским». Семья с ярко выраженными национальными и сионистскими ценностями, говорящая на иврите – что на свете может быть менее русским?!
А между тем, меню было русским, столовые приборы русскими, акцент русским, близкие «русскими», даже детские врачи – и те «русскими». Я помню, как мама доверительно (чтобы ребенок не понял) сообщала стоматологу по-русски «он боится». Литературой для меня была русская классика, напитком – чай. Чай – единственное, что подразумевалось, когда в нашей семье у человека спрашивали, хочет ли он пить. Свист самовара я слышал круглые сутки. Кофе в доме не держали, мне по великим праздникам готовили какао, а когда в продаже появился чай в одноразовых пакетиках, то мой отец объявил им «идеологическую войну». Дедушка с бабушкой из Пинска и мама с дядей знали русский, немецкий, идиш, в доме было огромное количество книг на русском и немецком языках, но говорили только на иврите, и это было идеологическое решение. Мой дядя впоследствии даже состоял в группе «защитников иврита». У мамы на всю жизнь остался легкий русский акцент. И она всю жизнь ощущала связь с Пинском (у папы, который к моменту репатриации был старше нее, акцента не было вообще, и к Варшаве он никаких сантиментов не испытывал). В детстве и юношестве я считал все это израильской ментальностью и вовсе не думал, что рос в «русском» доме.
К религии в нашей семье относились, я бы сказал, очень многогранно и изобретательно. Мои родители были не просто светскими, они были антирелигиозными людьми. При этом испытывали теплые чувства к тем, кто соблюдал традиции. Мама, например, никогда не постилась в Судный день, но всегда говорила, что на праздник Песах в доме все должно быть кошерным, чтобы раввин мог у нас отобедать. Этот воображаемый раввин так никогда и не пришел, да его вряд ли кто-то дожидался на самом деле, но в этом состояла идеология. Папа никогда не писал по субботам, но ездил на футбол! Эти противоречия меня раздражали. Перед своей бар-мицвой[13] я заявил отцу, что так дальше продолжаться не может. Он ответил: каждый сам создает свой иудаизм таким, каким он его видит. «Мой отец не ездит по субботам, а я езжу, и считаю, что в XX веке отказываться от этого глупо. Ты можешь найти себе свое место», – сказал он тогда, и меня это еще больше разозлило. Я мог понять маму, которая вообще ничего не соблюдала, тем более понимал родителей папы, которые были сугубо верующими людьми, но совершенно не понимал отца, соблюдающего традиции наполовину. А тут еще и бар-мицва, заставившая меня пойти на крайности.
Я когда-то был религиозным человеком, да еще каким! Я перестал ездить и не писал по субботам, соблюдал кашрут, не ел в семье моего светского брата, ежедневно накладывал тфилин и каждую пятницу и субботу ходил на молитвы в синагогу. В армии я частенько оставался на военной базе по субботам, так как не мог поехать домой, у меня были две миски – для молочной и мясной еды. Папу это очень злило (маму как раз нет), но он до конца своей жизни так и не увидел меня светским человеком.
Все изменилось в одночасье, после участия в войне Судного дня, когда я уже сам был отцом. Я отказался от соблюдения заповедей – слишком велико было потрясение от увиденного и пережитого в ту войну. У меня осталась любовь и знание религии, я могу пойти в синагогу, когда представляю Государство Израиль за рубежом, я знаю, как себя там вести. Но не более того.
Война тогда кардинально повлияла на многих молодых людей. Мы вдруг увидели жизнь по-иному. Это был тяжелый, переломный момент в моей жизни.
Если вспомнить время, когда формировались мои политические пристрастия, то следует вернуться далеко назад.
Мне было пять лет, когда воспитательница в детском саду собрала детей и сказала, что глава правительства Бен-Гурион подал в отставку и уехал жить в Негев, находящийся, как мы думали, «на краю света». Дети это прослушали и пошли играть дальше, а я отошел в уголок и заплакал. И это притом, что он, в конце концов, не умер и даже потом еще вернулся к власти, но я этого тогда знать не мог, а как дальше жить без великого вождя страны Бен-Гуриона не понимал. Я думал, что мир перевернулся – что-то похожее на то, что происходило в СССР в день смерти Сталина (этот день я, кстати, тоже очень хорошо помню: мне тогда было пять лет, и у нас в доме не смеялись и не танцевали, хотя и не плакали). Я рос ярко выраженным «бен-гурионистом». В школе у меня был преподаватель истории – ревизионист, которого я очень любил, но с которым вел тяжелейшие споры по поводу Бен-Гуриона. С «детьми-ревизионистами» в классе мы тоже вели постоянные дискуссии, устраивали заседания общественного суда – к примеру, по «Альталене»[14] или по поводу создания телевидения в Израиле.
Телевидения, без которого не может существовать ни один политик ни в одной стране мира!
Но раз Бен Гурион был против телевидения, то и я автоматически был против, в отличие от «плохих» детей, которые почему-то хотели смотреть телевизор. Статьи, которые я писал, имели ярко выраженную бен-гурионистскую окраску. Я был его истинным поклонником, и должен признать, что со временем не изменил свого мнения. Теперь я, правда, знаю, что он, как простой смертный, совершал и много ошибок, тем не менее, продолжаю считать, что первый премьер-министр Израиля был великим государственным деятелем. В детстве я специально бегал к его дому по четвергам, чтобы посмотреть, как он возвращается из Кнессета. Теперь я, конечно, понимаю, что ни один политик не достоин такого поклонения, но тогда я думал иначе.
Педагогами, повлиявшими на мое становление, были Йоси Годарт, который отвечал за молодых корреспондентов на радио «Коль Исраэль», заместитель главного редактора газеты «Маарив ле-ноар» Моше Бен Шауль и руководитель молодежного кружка театра «Габимы» Шломо Бартонов. Бартонов, наверное, был мне ближе остальных. Великим актером он так и не стал, исполнял в основном второстепенные роли, но педагогом был замечательным. Он до безумия любил театр и сумел и нам, его воспитанникам, привить страсть к этому искусству. Моше Бен Шауль сам был поэтом, но очень многому научил меня, как и многих моих сверстников, именно в журналистике. Он отправлял в корзину множество наших статей, но его критика всегда была предметной, и на ней мы учились тому, как должен работать настоящий журналист. Йоси Годарт, который с созданием телевидения стал одним из известных документалистов, открыл для меня радио и был примером для подражания.


