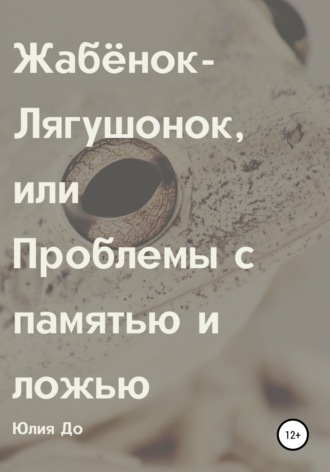
Юлия До
Жабёнок-лягушонок, или Проблемы с памятью и ложью
Я обращался к профессору Варлюгхайту – «специалисту по лжи и пробелах в памяти», как было написано на его карточке. Это был человек немолодой, в очках с серой оправой, с таким же серым угрюмым лицом. В кабинете его были серые стены, серые шторы, создающие нужной серости настроение.
– Как вы относитесь к своей лжи? – спросил он серьезно, барабаня пальцами по серому блокноту.
– Она мне отвратительна. Я теряюсь в самом себе из-за океана лжи в моей памяти, я чувствую себя маленьким фрегатиком из бутылки, попавшим по глупейшей ошибке в настоящее штормящее море.
– Интересная метафора, – крякнул Варлюгхайт.
– Я верил в то, что говорил. И сейчас не могу, не могу ничего вспомнить! Я не хочу больше врать, лгать, приукрашивать, выдумывать и какие еще есть синонимы этому слову – ничего не хочу!
– Но вы не можете остановиться?
– Нет, не могу. У меня нет сил. С самого рождения у меня была скучная, пустая жизнь. Родители с меня пылинки сдували, не ссорились, не пили. Добрейшие, но скучные создания! Мои сверстники постоянно жаловались на наказания за шалости, на болезни, на смерть. А я был лишен всего этого. Вы не подумайте, я благодарен Богу за это… но, черт возьми, как скучно! Я был доволен, можно сказать, счастлив, но никому не интересен и, следовательно, не нужен. А иногда так хочется рассказать что-нибудь, а нечего, нечего! До чего скверно быть ребенком, которому нечего прошептать с хитренькой улыбкой соседу по парте… И я начал лгать.
Знаете, мама всегда учила меня, что… если вдруг, в безвыходном положении, я буду вынужден сказать неправду, я должен говорить уверенно, правдоподобно – чтоб все поверили, чтоб я сам поверил… И это произошло. Я верил всему, что говорил. Всему! Однажды, когда мои друзья говорили о любви, о своих подружках, а я сидел молча в стороне, мне вдруг сделалось так одиноко, так тоскливо, что я, сам не знаю зачем, сказал, что и у меня была любовь, и выбрал на роль возлюбленной всем известную особу. Я так правдоподобно описал нашу любовь, наш первый поцелуй, наши встречи, что, вернувшись домой, сам уже верил в то, что наговорил. Я вырезал ее личико сердечком со школьной фотографии, вставил в рамочку и спрятал куда-то в ящичек, чтоб потомить себя тайной. Когда пришла мама с работы, я, запершись с ней зачем-то в кладовке, прислушиваясь, нет ли кого по близости (в кладовке!), не подслушивает ли кто, я, самым доверительным тоном, поведал матери о своей любви. Как это глупо! Жаль маму, она так перепугалась от нарастающего драматизма, боялась, небось, что случилось что-то. А это всего лишь я в очередной раз поверил в собственную ложь. Я верил в нашу любовь еще пять лет, пять лет!







