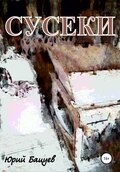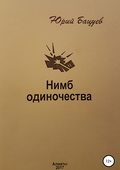Юрий Андреевич Бацуев
Оттепель 60-х
Слова должны быть просты, это серенада, обращённая к милой. Она звучит звонко, но звуки её наполнены тоской по любимой и одиночеством. Сёмин, схватив бумагу, выскочил из «музыкального» круга и убежал в укромное место, чтобы заполнить созданный нами каркас стихами. Минут через пятнадцать он вернулся. Глаза его блестели, а сам он был бледен. «Звёздочки, звёздочки…– лихорадочно бормотал он.– Чушь-то, какая? Но эти слова как раз здесь необходимы, также как и обращение «милая, слышишь, как сердце больное страдает?..»
Серенада была готова. Мы с Виктором приступили, так сказать, к концертной её обработке. Решили сначала просвистеть мелодию, потом пропеть один куплет, после чего, вместо повтора двух последних строк, напеть мотив без слов. Всё было решено и расставлено по местам. Я запел, Виктор мастерски заиграл струнами, Сёмин молча стоял рядом. Шлоссер – солдат, мой земляк, открыв рот, замер. Казарма вновь всполошилась и напряглась. Все слушали жадно. У всех были любимые девушки, все тосковали душой, а теперь ещё и слова нашлись. Простые, понятные; может, и не совсем утончённые. Но почему-то в эти совместно проведённые на военном полигоне дни почти все солдаты переписали эти слова.
Серенада «Тоска о любимой»
Милая, милая,
Где ты теперь, дорогая?
Как о тебе
В этот вечер грущу и мечтаю?..
Звёздочки в небе
Всё ярче и ярче мерцают,
Нежный призыв мой
Сквозь тучи тебе посылают.
Звёздочки, звёздочки…
Голос звучит замирая.
Милая, слышишь,
Как сердце больное страдает?
Годы идут –
Сердце жизни минуты считает,
Зов мой, тоскующий,
В звёздной ночи замирает.
…В начале августа рядового Сёмина и командира экипажа – моего земляка Шлоссера – направили в составе группы танкистов в учебный центр для отработки навыков при преодолении танками водной преграды, с погружением танка с экипажем в акваторий. Пробыли они там не менее трёх месяцев. Я отправил письмо на имя Феди (теперь мы его звали Мефодием) Сёмина, и вскоре получил обширный ответ.
«Здравствуй, Юрок! Здравствуй, добрый мой наставник! – отвечал он не без юмора. – Хоть ты и пишешь, что тебе всё равно, вижу, не хочешь, чтобы я по-прежнему валял дурака: писал ничего не значащие стишки и занимался прочей мутью. Я сейчас уже многое понял: за большинство прошлых «творений» даже стыдно и порой чертовски хочется бросить всю эту писанину, не забивать голову чем-то большим, возвышенным, а быть простым сереньким человечком – кушать спокойно хлебушек и щи, смотреть по выходным хиленькие кинофильмишки и восторженно хлопать в ладоши таким вещам, как «Девчата». Но, понимаешь, не могу я так… не могу не восторгаться красками и свежестью утра, не могу не любить красивое. Хочу, чтобы всё было так, как у Ефремова. И пытаюсь подготовить себя к тому, чтобы внести свой вклад в жизнь… И не ругай меня за то, что я стремлюсь «фантазировать». Ты считаешь, что сейчас нужно писать о наших днях, о живущих героях, показывать красоту сегодняшнего человека, его жизнь. И я хочу этого. Но я хочу показать и то, как растёт это в человеке, совершенствуется, становится богаче и сильней, и каким это будет в будущем. Большой замысел? Да! И ты сейчас, наверно, усмехаешься своей скептически-многозначительной улыбкой и думаешь, что я замахиваюсь, на бог знает, какую гору. И силёнок у меня не хватит. Я и сам знаю, что хочу очень многого, и сам не уверен, что смогу достичь своей цели. Может быть, даже не ступлю на первую ступеньку той лестницы, по которой собираюсь идти. Но если случится так, то я, действительно, кончу алкоголиком или, может, произойдёт что-нибудь похлеще». Далее он сообщал о конкретных своих творческих делах и задумках. Из направленных мне стихов очень понравилось следующее:
До утра совсем чуть-чуть осталось,
Месяц притаился у окна.
Над казармой нашей разметалась
Чуткая ночная тишина.
Тонкие берёзоньки укутала
Зыбкою прохладною фатой,
И сама меж них будто запуталась,
Заблудилась в темноте ночной.
Выйти что ль с тобою поаукаться,
По росному лугу побродить.
Свежестью предутренней окутаться.
Из ручья пригоршню звёзд испить.
Я сейчас сонлив чуть и спокоен
И с тобой в один настроен лад:
Захотел немного твоего покоя
За ночь измечтавшийся солдат.
Я пойду сторожко и тихонько:
Ни одной травинки не помну,
Ни словечка не скажу я громко,
Ни одной пичужки не спугну.
А у речки, что простёрлась длинно,
Тишиной прохладной стану сам.
Мы с тобой сольёмся воедино,
Потечём по травам, по лесам.
«Стихи посылаю, – продолжает он в письме, – только для того, чтобы доказать тебе, что я не бросил ещё свои пробы. Пытаюсь что-то делать и в прозе. Приступил к написанию повести. Результаты есть, но плачевные. Поэтому я оставил её пока. Испугался огромной работы, которую нужно делать. Но скоро, надеюсь, взяться за неё вновь и, возможно, что-то получится. В ней нет ничего фантастического. Хочу показать мыслящего парня, современника, человека моего круга и образа жизни, и очень славную, по-настоящему красивую девушку – Зою.
Фантазировать сейчас не думаю, хочу готовиться к поступлению в институт на физико-математический факультет. Приезжала мама и привезла учебники по математике, но всё никак не могу за них взяться. В любую свободную минуту лезет в голову рифмованная тоска и я пишу её, а для занятий времени не остаётся… Плохо без девчонки».
В завершение своего письма оговорился: «Взаимности ради, скажу, что тебя тоже чертовски уважаю, хоть и подковыриваешь ты меня на каждом шагу». И потом: «Извини за ошибки. Письмо не хочу перечитывать, а то порву, пожалуй». И приписал: «Читаю Маяковского. Я и не знал, что он такая громадина».
…После возвращения в часть наши разговоры с Мефодием сводились в основном к тому, о чём и как должен и не должен писать автор. Я как-то сказал, что писатель не должен напрямую высказывать свои мысли, а должен через персонажей это выражать. На что Сёмин возразил: – Твоё утверждение слишком категорично, – говорил он. – Если в ходе повести возникнет необходимость прямо выразить своё отношение, – зачем избегать этого? Возьми, к примеру, образные лирические отступления Гоголя о Руси-тройке».
Ещё я утверждал, что не место в романе авторским филосовским рассуждениям, что это лишает произведение художественности, делает его более схоластичным. – Если я, – возразил он, – буду писать что-то стоящее, не смогу удержаться от «философствования». По-моему, философская мысль наиболее верна и многообразна. И она не может испортить художественное произведение.
Это были окололитературные рассуждения, за которыми пряталась наша беспомощность и невозможность пока ещё проявлять себя более полноценно. Не хватало жизненного опыта и необходимого мастерства.
В январе к Сёмину из Москвы приехала сестра Ирина. Поселилась она в гостинице. И Сёмин нас, наиболее близких друзей, познакомил с ней, организовав встречу в гостинице. После чего в моей записной книжке появилась следующая запись: «И будто вновь всё порозовело, обрело черты весны, черты ушедшей в прошлое нежности и юношеской чистоты. Неужели снова влюбился? Она, эта любовь всегда неожиданная и странная. Любовь, говорят, бывает с первого взгляда. Непонятное, трепетное чувство, но хорошо и светло на душе».
Такие свежие ощущения зародились не только у меня, но и в душах остальных ребят, моих сотоварищей. Может, это было вызвано нашей изоляцией от нормальной жизни, но, безусловно, и тем, что Ирина была привлекательной девушкой. Она была очень похожа лицом на брата: те же правильные черты, те же глаза, брови, но более женственные и утончённые. Но, главное, мы тогда все были молодыми, а молодые, как сказал мой знакомый старый геолог, все красивые, особенно это касается девушек.
…Спустя год, мы с Сёминым стали всё реже при встречах вести разговоры о литературе. В стихах его стали появляться интонации, ранее не приемлемые. Исчезли душевная боль и нежность. Появилось ожесточение и элементы озлобленности.
Взошла луна,
Бледная,
Разбавленная,
Как пьяная,
Как выеденная,
Как из желтка
Отравленного.
В спазмах вывернутая.
Свет её в душу
Тоской втискивается.
А рядом звёзды
Синие искрятся.
Как только что вылупились
Из холода.
Как искры брызнули
От молота.
А тут тоска.
К чёрту тоску,
Дребезжащую
Лунную.
К чёрту – дрожжащую
Или надуманную!
А ещё через полгода, когда мы оба стали «дембелями», он как-то сказал мне:
– Ты у нас «программный».
– Это как понимать? – спрашиваю.
– Что наметишь, то выполнишь. Что наметишь, то будет.
– Это хорошо или плохо? – уточняю я.
– Конечно, хорошо, Юрок.
На третьем году Федя совсем изменился. Он уже не походил на того солдата, которым был вначале. Вступал в конфликт по мелочам со старшиной и командирами. Внешне – тоже не было того лоска, пусть даже солдатского, который был раньше. Его стали часто отправлять за пределы полка на обслуживание полигонов и других объектов. Он стал неудобен, дерзок и не исполнителен. Мне тогда подумалось о том, что нельзя держать в бессмысленном солдатском заточении молодых людей. Ведь пока рядовому Сёмину было интересно постигать военное дело, он был прекрасным солдатом. А как только почувствовал, что он заложник, который должен просто отбыть (не говоря уже о той бестолковой, повседневной работе) три года, которые кто-то просто так, может быть, «с потолка», назначил для него, как и для других, назвав это «почётным долгом» перед Родиной. Он – нормальный, умный, талантливый человек – вдруг начинает понимать, что самое лучшее время, когда он должен учиться и совершенствоваться, уходит на бессмысленное времяпровождение – у него возникает чувство протеста, чувство неповиновения этим, для него случайным, командирам. Им, может, это и надо подолгу избранной ими работы. Но ему-то зачем? Ведь можно было обучить его военному делу за какие-то полгода или, в крайнем случае, за год и отпустить для дальнейшего формирования как личности. Но этого не произошло. И рядовой Сёмин – этот симпатичный парень, ощущая себя балластом, и становился «балластом». А сколько молодых людей, включая меня, находятся в аналогичных условиях, сколько судеб затормаживается и губится?..
Рядового Сёмина, как недисциплинированного солдата демобилизовали 31 декабря 1964 года, то есть продержали дополнительно после официального приказа министра, который вышел 6 сентября, ещё почти четыре месяца.
Постскиптум.
В 1971 году я попал в Москву и, конечно же, зашёл к Мефодию, к дорогому моему сердцу – Феде Сёмину. Дома застал ту самую сестричку Ирину, которая всем нам понравилась. Ирина поведала тогда о том, что совсем недавно, буквально за несколько дней до моего появления, Фёдор уехал на Дальний Восток в Находку. Его отправили к родственникам с надеждой, что он образумится и начнёт новый образ жизни. Я не стал выяснять детали, я понял, что, видимо, с институтом сразу после армии ничего не вышло. А готовиться упорно и по-настоящему не хватило воли. Я вспомнил и наш разговор, когда мы стали «дембелями», и его слова: «Ты у нас «программный», что наметишь, то выполнишь. Что наметишь, то будет».
Армейская «богема» художников
Предисловие
Не знаю, почему «зацепили» меня эти «импрессионисты»? К живописи я имел самое ординарное, обывательское отношение. Будучи студентом, иногда посещал художественную галерею, правда, не «за компанию» с кем-то, а сам – по наитию. Рассматривал картины зарубежных и отечественных классиков. Простаивал у портретов и у живописных полотен, размышляя над тем, «что автор этим хотел сказать?» В Иркутске, где я тогда учился и где посещал художественный музей, в основном экспонировались копии картин – слишком далеко отстоял сибирский город от культурного центра страны, чтобы иметь подлинники.
Но интерес к живописи у меня возник значительно раньше, когда я учился ещё в школе. Был у меня друг – одноклассник, не равнодушный к рисованию. Он даже подарил мне свою, выполненную акварелью картинку, чуть больше стандартного листа. Там изображена была лунная ночь, где отблеск луны широкой полосой рассекал водную гладь озера. В ночном небе сияла дискообразная золотая луна, а по берегам озера просвечивались стебли прибрежных трав. Вот он-то, Коля Писарев – мой друг – уважал живописцев и очень хотел сам живописать. Может быть, с тех пор я в каждом новом для себя городе посещаю художественные галереи.
После окончания техникума я вернулся в Казахстан и в Алма-Ате встретился со своим школьным другом, который занимался тогда в художественном училище и работал в оперном театре подсобным рабочим у главного художника Сергея Колмакова. Сергей Михайлович Колмаков был достопримечательностью города. Он ходил по улицам, ряженый в яркие оперные одежды, которые сам себе и шил. Был он невысокого роста. Голову его покрывал широкий, свисающий на ухо берет. В руках завсегда был набор газет, чаще иностранных, а с боку свисала двухлитровая стеклянная банка для молока. Он не курил и не употреблял крепкие напитки. Говорят, кроме хлеба и молока, он никакой другой пищи не принимал. Яркую одежду, с его слов, он носил для того, чтобы быть видимым из космоса. Мне, благодаря рассказам Коли о своём патроне, Сергей Михайлович нравился. Обыватели про себя посмеивались, но относились к нему с уважением. Он много знал, и не только носил диссидентскую одежду, но и самое главное – был исключительным художником. Естественно, Коля Писарев боготворил его. А я, полагая, что и друг мой выбрал для себя стезю художника, посвятил ему стихотворение, в котором напутствовал его, хотя и высокопарно, но серьёзно:
Решил ты жизнь
Посвятить искусству,
Так будь же твёрд –
Не отступай назад.
Не верь сомнительным
И ложным чувствам,
Не бойся встречных
На пути преград.
Своей мишени
Не ищи ты в Славе.
Никчемных толков
В стороне держись.
Сама пусть живопись
Тобою правит.
И лучшим будет
Утешеньем кисть.
Оригинальность внешнего вида художника Колмакова я тогда воспринимал нормально, то есть при встречах не таращился на него, как на инопланетянина, а просто вежливо здоровался.
И вот сейчас, прочитав книгу Ирвина Стоуна «Жажда жизни», может быть, в моём сознании, при ознакомлении с художниками-импрессионистами, само понятие «импрессионизм» подспудно увязывалось с необычным внешним видом главного художника Алма-Атинского театра оперы и балета Сергея Колмакова.
Мне, да и не только мне, но и моим товарищам – близким по духу солдатам, стало вдруг ясно, что не только в живописи, но и в литературе, и других видах искусства, а также в самой жизни, непременно должны меняться стереотипы восприятия и воссоздания окружающего нас мира. Что наступают новые времена. Это чувствуется. Появляется и у нашего человека возможность вырваться из однополярного магнитного поля в мир «броуновского» самовыражения. Я вдруг увидел, что даже вот здесь, рядом со мной находятся пока ещё не состоявшиеся, но уже определившиеся будущие художники трёх направлений. Они, пока ещё как могут, но уже идут каждый своим путём. Самым подготовленным, да и убеждённым художником – реалистом, был ефрейтор Юрий Травкин, символистом – рядовой Александр Шварцман, а художником, несущим в себе интеллектуально-образное восприятие мира, – рядовой Валера Лебедев.
Юрий Травкин
Передо мной портрет рядового солдата: солдат не в строю, не в парадном кителе, опоясанный ремнём, а в повседневной гимнастёрке. Художник усадил его так, словно он оседлал стул, облокотившись скрещенными руками на спинку. Тонкие кисти рук свисают со спинки стула. Лицо, повернутое слегка в сторону, выражает задумчивую сосредоточенность. Глаза смотрят не в упор на зрителя, а чуть выше и выражают невесёлое раздумье. Этот портрет подарил мне ефрейтор Травкин.
Прежде чем занять уготованное место в квартире, полотно художника пролежало много времени свёрнутым в трубочку, а затем, натянутое на подрамник, сменило несколько случайных рам, пока не нашёлся человек, который из лиственницы сотворил точно по размерам (80 на 55 сантиметров) достойное обрамление портрету. Прошло ещё немало лет, пока картина нашла своё место в комнате моего сына. Когда же мои друзья, коллеги-геологи, впервые увидели портрет, они воскликнули: «А что это за Фурманов у тебя на стене?» «Какой Фурманов? – нарочито возмутился я. – Фурманов был комиссаром у Чапаева, а здесь я – рядовой Бацуев».
…26 августа 1962 года в художественной мастерской солдатского клуба нашего полка Юра Травкин, не находя себе места, нервно расхаживал по мастерской, столы которой были заставлены банками с красками, а также завалены разными набросками армейских плакатов и схем, и бормотал:
– Мне надо кого-то найти, кто согласился бы позировать, да приниматься за работу.
– Я согласен!.. Меня разве нельзя? Впрочем, конечно, если ты находишь нужным,– охотно предложил себя ефрейтор Стахов.
Художник: – Тебя?! (внимательно всматривается).
– Или вот моего друга, Конского? – указал Стахов на случайно оказавшегося здесь другого солдата.
Конский, встрепенувшись: – Слушай, Травкин, а ты действительно попробуй. Я давно хочу предложить тебе свою фигуру: буду позировать тебе в плавках.
Стахов: – А мускулы-то у тебя есть?
Конский: – Причём здесь мускулы? Спина у меня, видишь, какая? Ростом я богат, есть талия. Могу ещё с копьём, или гантелями, предстать.
Художник, едва взглянув, только и сказал: – Курить охота.
Тут же нашлась папироса «Беломор».

Ю. Травкин (слева), Н. Кандаков, Ю. Бацуев
…В тот день, когда посторонние разошлись, Травкин предложил почему-то мне занять место на стуле, где я, «оседлав» его, позировал ровно три с половиной часа, не вставая с места. Портрет был готов за один сеанс. Он написан масляными красками. И сейчас этот портрет (спустя много-много лет) висит в комнате сына.
…Художник Юра Травкин был призван в армию, когда до получения диплома об окончании Ивановского художественного училища оставалось меньше года. Причём забрали его за три месяца раньше официального призыва. На это была причина. Сергей Бондарчук снимал картину «Война и мир» и ему требовалось для военных массовок большое количество солдат. На первом плане снимались солдаты российской армии в стандартном обмундировании, а за ними только что призванные (в их числе Травкин) – одетые в исподнее бельё, то есть в белые нательные рубахи и кальсоны. В доказательство этого действа у Юры Травкина, хотя кино тогда ещё не вышло на экран, были фотоснимки отдельных эпизодов с участием личного состава новобранцев.
Когда я попал в полк, Травкин, будучи уже «обстрелянным», имел в своём распоряжении художественную мастерскую, которую сам и обустроил при клубе части. В строевой танковой роте он появлялся только тогда, когда надо было участвовать либо при сдаче проверочных экзаменов, либо в спортивных состязаниях. Кстати, он был прекрасным бегуном, хотя много курил. Его относительно свободно отпускали по маршрутному листу в центр для покупки красок, ватмана и других принадлежностей. Иногда он на электричке отвозил в Горький и свои картины для участия в выставках художественных полотен. Художником он был почти профессионально состоявшимся. Кроме станковой живописи, он занимался росписью шкатулок, придерживаясь палехской школы.
Наши дилетантские разговоры об импрессионистах он не воспринимал серьёзно, так как был приверженцем академического направления. «Много на свете художников, – говорил он, – но каждый работает по-своему. Я стремлюсь тоже к своей технике изображения. Всё остальное будет воплощено с помощью приобретённого мастерства. Вот вы тут рассуждаете об импрессионистах: Ван Гоге, Поле Гогене, о Сёре и других. А ведь всё зависит от того, каким взглядом ты на полотно смотришь, и что ты видишь в картине. Наверняка, Ван Гог, создавая свои этюды, и не предполагал того, что вы сейчас, да и другие ценители до вас, в них увидите». «Так и я, – резюмировал он, – иду своим путём, а что получится, судить и ценить не мне, а зрителю».
Рассматривая этюды Травкина (его отпускали иногда на пленэры), я, стараясь понять суть изображаемого, всячески побуждал его к беседе.
– Вот теперь, кажется, дошла до меня твоя живопись, – воскликнул как-то я, обращая внимание на детали картины. – Я вижу, вот здесь у тебя цвета играют, живут, переливаются. Это верно?
– Да, здесь играют, – согласился Травкин.
– А в этой картине удачен плащ женщины, и опять же видна игра света на одежде и лице мальчика. Но странно, – продолжал я, – что живут-то только светлые тона: жёлтый, сиреневый, синий. Особенно жёлтый.
– Ты не увлекайся «игрой». Игра не означает совершенства. Игра зависит от источника света, если нет света – не будет чувствоваться перелив, но вещь будет совершенна и оригинальна. Суть не только в этом. Суть в мастерстве и в том, как оно воспринимается.
От Юры Травкина я узнал о различных школах миниатюрной живописи. Увидев расписанную шкатулку, я сначала не придал никакого значения ей и даже не думал о том, что она представляет какую-то ценность. Но благодаря Травкину, я узнал, что это миниатюра «палехской школы», что выполняется она темперой на чёрном фоне. (Темпера – это краски, смешанные яичным желтком, или находятся в консистенции с клеем и маслом). Но существуют и другие направления. Например, миниатюра «ХОлуй» выполняется темперой на белом фоне, а распознать «Мстёру» можно по окоёмам, очерченным золотой нитью. «Федоскинские» же миниатюры представляют собой обычно копии известных картин в масле.
Иногда в мастерскую Травкина заглядывал майор Эрлих, тот самый, который заставлял меня маршировать в казарме. Он был завзятым холостяком и ловеласом и заказывал для украшения стен своего холостяцкого жилища копии картин, небольшого размера. За это он поощрял Травкина скромными денежными вознаграждениями. Кроме того, по заказам других офицеров Травкин выполнял копии картин Левитана «Вечерний звон», Крамского «Незнакомка» и Врубеля «Царевна-Лебедь». На деньги, которые получал от заказов, он водил нас в солдатскую чайную, где мы за «интеллигентными» разговорами поглощали молочные продукты, которых не доставало в армейском рационе.