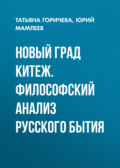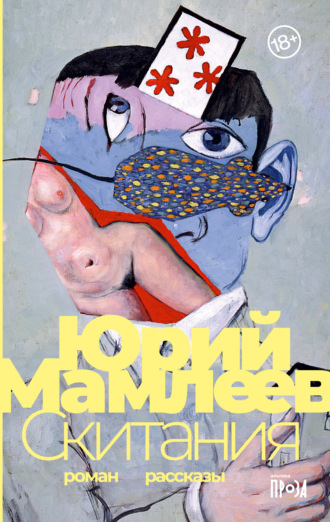
Юрий Мамлеев
Скитания
– Вы хотите их использовать?
– Дорогой мой, а для чего же они ещё нужны? Но мы подойдём дифференцированно.
Первая категория – это как раз такие, как вы. Нонконформисты в искусстве. Не политические диссиденты. Им – ничего, и по вполне разумным и, надо сказать, уважительным причинам. В наши планы не входит беречь и сохранять русскую культуру и литературу, так что пусть барахтаются, как могут, у нас и так достаточно неприятностей.
Вторая категория – страдальцы, борцы, часто из тюрем. Те, которые настолько пропитаны ненавистью, что готовы забросать бомбами родной город. Фанатики, одним словом. Забавный материал. Ими очень легко манипулировать. Но держать их надо на привязи; ненависть – страшная сила, и её необходимо контролировать.
Третий случай – борцы за справедливость. Искренние идиоты, иными словами – идеалисты. Такими манипулировать легче всего. К сожалению, эти – почти всегда бездарности, за редким исключением. Работают за «правду». Но, поскольку мы умеем правду превращать в ложь, это весьма удобный вариант. Платить можно мало, гроши. Мы не доверяем идеям – ибо убеждения у людей могут меняться. Да у нас и нет идей, кроме идеи эгоизма. Мы верим только в тех, кто служит или предаёт за деньги. Такой пафос. Главная проблема для таких людей – конкуренция; им во что бы то ни стало нужно выбиться, как вы это говорите, в люди. А в люди выбиться нелегко. Но представьте: солдаты, умирающие во имя «эгоизма».
Андрей вновь поразился русскому языку Рудольфа и его русским интонациям. И вместе с тем «нерусскости».
– Четвёртый вариант – писатель, – продолжал между тем «Мефистофель». – Извините, диссидентский писатель. Писатель-политик. Самый сложный для нас вариант. К тому же слишком много индивидуальных особенностей. Увы, деньги здесь не всегда главный козырь. Хотя, между нами говоря, существенный. Но всё-таки основная линия – тщеславие. Вы, конечно, понимаете, дорогой мой, что это просто козырной туз в наших руках. Единственная опасность – большой талант. – Тут Андрей впервые за весь этот разговор засмеялся. – Потому что тогда всё устраняется, даже тщеславие. Но нам нужен не талант, а талантик. Очень-очень маленький. Слава богу, среди них подавляющее большинство именно таких. Тогда всё просто. Свободно-продажная пресса напишет всё что угодно. Мелкий талантик превратится в эдакий синтез Толстого, Данте и Пушкина. Бумага терпит всё. Тщеславие превратит их в слабоумных. А мы будем только дёргать за ниточку. Техника этого элементарна. Но платить будем много.
Пятый вариант – самый нейтральный. Тот, кто на реальном подсознательном уровне работает на деньги или на нас, а на уровне сознания уверяет себя, что работает на «справедливость», на «правду». С ними легко. Платим мало или средне.
Шестой случай – кто работает на «нас». Во всяком случае, считают так. Но весь вопрос в том, кто «мы»? В последнем-то счёте?
И Рудольф тут так великолепно подмигнул Андрею, что тот окончательно растерялся и не знал даже, что сказать. Всё-таки собрался:
– Это уж вам виднее, кто «вы», – сказал он. – Что до меня, то я в этом ничего не понимаю. Конечно, можно сказать, как говорят многие: Америка – это диктатура богатых, банков, большого бизнеса… Но это знают и младенцы. Демократия и свобода – просто цирк для слабоумных. Я это вижу воочию.
– Ну конечно, это так, как вы говорите, – улыбнулся Рудольф. – Но я же говорил о более глубоком, почти неземном уровне… Вы не совсем искренни со мной, мой друг. В отличие от меня.
– Ну и ну, – вздохнул Андрей. – От вашей искренности веет холодом ада. Избави Бог от такого.
И он выпил целый фужер вина. Потом произнёс:
– Кроме того, я не забываю, что то, что здесь происходит, – эксперимент. Вы сами это сказали.
– О да. Но не в смысле лжи. Эксперимент правды. Это действительно самый страшный эксперимент и самый редкий к тому же. Лучше остановимся на полпути и выпьем. А?
– Давайте.
Выпили, помолчали.
– Какие же ещё есть варианты? – спросил Андрей.
– А… – Рудольф вдруг с отвращением махнул рукой. – Есть, конечно, и другие. Но наш общий принцип таков: скажем символически – у врага или, извините, у соседа по планете горит лес. В каком-то регионе. Допустим. И это правда. Но нам надо использовать эту правду не так, чтобы потушить огонь, а чтобы уничтожить соседа. Иногда полезны в этом правдоискатели (с территории соседа). Но это только один уровень. Есть и пострашней, – добавил он довольно сухо.
– А вы не учитываете, – вдруг спросил Андрей, совсем уже внутри себя потерявший контроль, но не внешне, – что среди этих диссидентов вдруг найдётся такой, который поднимет бунт против вас?
Тут Рудольф, как это ни парадоксально, опять расхохотался.
– Андрюша, пусть немногие и поймут все тонкости, пусть скрежещут зубами, пусть даже поплачут, а всё равно делать будут то, что нам нужно. Дело в том, что бунт для нас даже полезен. Мы это используем, правда, больше по отношению к своей интеллигенции. Конечно, контролируемый бунт. Мы умеем всё контролировать. У наших «бунтарей» 60-х годов неплохие счета в банке. Но главное всё-таки в психологии. Надо дать людям возможность порой поплакаться на своих хозяев. Это как отдушина. ЦРУ даже поощряет анекдоты про ЦРУ.
– О, ЦРУ! Некоторые из наших эмигрантов считают, что это очень гуманная организация.
– Вне всякого сомнения. Христос, Будда, Альберт Швейцер и Ромен Роллан должны брать с них пример в этом отношении. Но вот ваши друзья – ваши эмигранты – перегнули палку. Скажу вам откровенно, – и Рудольф заказал кофе. – Опять-таки, видите, какой милый парадокс: я вам открываю государственные секреты и не требую с вас взамен ничего – ФБР завалено доносами приезжающих из СССР друг на друга. Нет, простые люди – как вы говорите, ребята из Одессы – этим не занимаются. Пишут в основном интеллектуалы и борцы за права человека. По своему положению я могу это читать, хотя это мелочь, пустяки, но я читаю, потому что это интересно с психологической стороны. Признаюсь, я вам завидую, когда-то я сам мечтал стать писателем. И если просто взять и опубликовать эти доносы, конечно малую часть из них, – получится роман века. Даже, я бы сказал, двадцать первого века. Но, увы, выкрасть их для вас нет никакой возможности. А стиль, Андрюша, какой стиль… Непревзойдённый материал для эстетов будущего… – Рудольф закатил глаза. – Какое кипение гнева! И последствия в жизни порой бывают трагическими. Это же, извините, не просто литература.
Кругов даже расширил глаза:
– Но, надеюсь, на меня нет доносов?
– Ошибаетесь, мой дорогой. Как раз на вас – хотя вы здесь всего два месяца – целые папки подобных сочинений. Там вы, конечно, и «советский агент», и «платный доносчик», и «потенциальный садист», а ваша жена – даже страшно сказать – «национал-шовинистка». Ваши друзья, Кегеян и Ростовцев, оказывается, отмечали день Восьмого марта. Вот уж не ожидал от них такого. Океан доносов на них. Всё-таки советский праздник, хотя и женский. А уж об одном человеке, который читал Есенина в клубе и твердил, что это великий поэт, о нём даже и не говорите… Ни-ни, – взмахнул рукой Рудольф. – О нём написано такое, что и выговорить-то страшно. Видите, величайшие столпы вашей культуры стали существенными элементами доносов. Ненавидимый всеми Гитлер был куда гуманнее нас. Если не ошибаюсь, при оккупации разрешалось читать Есенина.
Жуткая улыбка и почти неподвижные глаза Рудольфа всё-таки окончательно вывели Андрея из себя:
– Этого не может быть! Просто не может быть! – с какой-то страстью сказал он. – Вы пытаетесь меня спровоцировать!
– Вот так всегда оскорбляют тех, кто говорит истину, – рассмеялся Рудольф. – Мужайтесь, мой друг. Вам предстоит такое, что вам и не снилось. Мужайтесь.
– Почему вы выбрали меня для вашего эксперимента?
– Кого-то же надо выбрать… Не знаю. Может быть, потому что вы талантливый человек, настоящий писатель. Я не работаю с дерьмом.
– А всё-таки, – после небольшой паузы сказал Андрей, – среди этих писателей-политиков, как вы их назвали, найдутся такие, которые непредсказуемы, и они поднимут бунт. Они выйдут из-под контроля.
– Не исключено, – серьёзно ответил Рудольф. – Но очень малая вероятность. В крупных делах на такую степень риска обычно не обращают внимания. К тому же вы недооцениваете нашу систему свободы, – ирония скользнула по губам Рудольфа. – И нашего понимания низшей стороны человеческой природы.
«Систему свободы? Великолепно», – подумал Андрей про себя. А вслух спросил:
– Хорошо, чего вы от меня хотите?
– Ничего.
– Как ничего?
– Андрей, прежде всего, я говорю вам опять искренне. В этом разговоре я выступаю не от имени тех, кому я служу, а лично от себя. Это мой личный, а не служебный эксперимент.
Рудольф закурил на десерт, который он явно недолюбливал; острая еда ему была более по вкусу.
– Просто в Москве по вашим произведениям вы меня заинтересовали, – продолжал он. – Имею же я право на свободное исследование. Видите, такой человек, как вы, наверняка сам бы пришёл к тому, что я вам высказал. Но это отняло бы у вас много времени. Может быть, кое-что, о чём потом скажу или сказал вскользь, вы бы никогда и не узнали. Так или иначе, но я решил вам высказать многое сразу, оглоушить вас, вызвать шок и посмотреть, как вы будете реагировать. Что с вами станет в конечном счёте.
– Зачем вам это нужно?
Рудольф вздохнул.
– Ради искусства, Андрей, ради искусства. А там видно будет. Конечно, вы будете как бы «проверять» мои, если можно так выразиться, тезисы. Вам их будет тяжело так сразу принять. Понятно, вы только что приехали, вам было плохо, вы в каком-то смысле всё-таки полны надежд. Понятно, что трудно поверить в то, что рай – это ад. Но рая не только нигде нет, более того, вы просто переходите от одной формы ада к другой. Вот и всё. Пока вы не осознали этого, в промежутке возможна небольшая передышка. Но здесь вам будет тяжелее всего, намного тяжелее, мой друг… Позвольте дать вам небольшой совет: когда будете «проверять», внимательнее читайте наши крупные газеты. Как, опять-таки, у вас говорят, между строк. И вы быстро постигнете технику «демократии» и «свободы». Ничего особо сложного в ней нет. Вот и все пирожки – так у вас принято говорить?
И Рудольф потёр руки.
– Значит, – произнёс Андрей, – вы будете за мной наблюдать?
– Наблюдать за вами? За вами и так наблюдают, мой друг. За каждым из вас, кто приехал в эту страну. Скажите спасибо, что один из тех, кто за вами будет «наблюдать», – ваш же доброжелатель. Ибо я вам желаю добра, если только добро существует, – несколько даже возвышенно сказал Рудольф.
– Да. То-то моя рукопись, которую я передал через одного американского дипломата, попала к одному почтенному профессору, как мне сказал ещё один мой доброжелатель из ФБР или ЦРУ… Я был поражён – ну зачем, зачем копаться в текстах, которые я сам хочу опубликовать? С этой рукописью обошлись так, как будто это какие-то подпольные, зашифрованные тексты. Ну что они могли искать, ведь это чистое искусство, там нет никакой политики, там несколько эссе о смерти и природе!
– Именно потому, что там нет никакой политики, это, может быть, и насторожило… А потом, и многое другое они могли искать. Друг мой, вы очень ещё наивны и не представляете себе всей широты наших исследований о русском человеке. За вами тщательно наблюдают, причём с той точки зрения, о которой вы и не подозреваете. Вы уже под микроскопом, правда, как я уже говорил, микроскоп не очень совершенный. Нечто важное, главное, всю бездну не улавливает. И этот Большой Брат видит не только эмигрантов, а вообще всех, живущих здесь. Спите и помните нашу свободу: Большой Брат всегда смотрит на тебя.
– Брр. Значит, Оруэлл?
– Какой там Оруэлл! Оруэлл был просто дитя. Ищите глубже.
Андрей почувствовал себя как-то неважно. На сердце легла почти физическая тяжесть, словно кто-то коснулся его.
Они поговорили ещё немного. Рудольф оплатил счёт.
– Плачу из своих, личных, Андрей, – улыбнулся он. – Когда с вами будут обедать потом, при различных полуофициальных встречах, помните, что обычно платит не тот, кто вас пригласил, а организация, к которой он принадлежит, – университет или даже ФБР, если им это так уж нужно. Но я плачу за вас от себя.
– Ну а весь этот разговор, конечно, между нами?
– Безусловно. Не из боязни за вас, а для чистоты эксперимента. Жене вы, конечно, скажете, но говорите не в номере, а лучше на улице, в толпе. Другим – очень не советую. Несите эту тяжесть сами. А я вам непременно позвоню. Но не скоро. Мы встретимся второй раз. И тоже фундаментально. За это время у вас многое переменится. Где бы вы ни жили, я вас найду во имя этой второй встречи. Я буду знать, что с вами.
И они расстались.
10
К тому времени Михаил Замарин уже вернулся из Бостона. Ему удалось продать там несколько картин. Это было почти чудо. Но он никак на это чудо не реагировал. Лицо его было таким же непроницаемым, как и тогда, когда он сидел на кладбище и рисовал.
– На нём лежит печать почти трёхлетней жизни в Нью-Йорке, – шутила Любочка Кегеян. – Мы пока только новички. Один Игорь чуть-чуть впереди нас.
Кегеяны уже жили в своей маленькой, но весёлой трёхкомнатной квартире на Девяносто седьмой улице. Любочка отчаянно работала.
Замарин позвонил им; у Кегеянов был Игорь, и Миша пригласил всех во вторник в один американский дом пообщаться с представителями местной богемы. Но во вторник Кегеяны были заняты. Игорь же согласился.
Они встретились в баре у Пятой авеню. Выпили по пиву и направились.
– Как тебе показался Андрей? – спросил Игорь у Замарина.
– Он меня долго и немного истерично о многом расспрашивал. Но ты знаешь, кроме некоторых чисто практических вещей, я отмалчивался. Пусть почувствует всё сам, на собственной шкуре.
– Но познает и хорошее.
Миша удивлённо посмотрел на Игоря.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну публикации, университеты…
– А, – равнодушно ответил Миша.
– Он пробьётся, – ответил Игорь, чуть удивлённо взглянув на Замарина. – Но я уже устал. Я целый год тут, и никакого результата. Да результата и не может быть. Кому здесь нужна поэзия? Даже русским её даром не надо. А при всём своём образовании я не хочу делать ничего другого. Нет, на что-то чуть-чуть достойное я бы согласился. Но предлагают такое дерьмо – да и то его надо пробить, – что руки опускаются. Ухаживать за больными старухами, сидеть сторожем. Чистить говно – это уже привилегия, платят больше, но нужна протекция. Не пробиться. Я не знаю, если и за такие места надо драться, то пошли они к чёрту. Лучше сидеть на социальном пособии в грязном отеле, с сумасшедшими, чёрными пенсионерами и тараканами.
– Скажи спасибо, что тебе так удалось устроиться, – заметил Замарин. – Вэлфер могут отменить в любую минуту.
– Ну только не для чёрных, иначе они всех перережут. Хотя для остальных…
– Что думать о будущем – нам-то ничего не известно. Меня больше сейчас интересует вопрос, почему Лермонтов был сирота.
И Замарин дружелюбно похлопал Игоря по плечу.
Квартира американских приятелей Замарина была довольно большая, но явно запущенная, правда, со следами старой роскоши. На длинном синем бархатном диване сидели молодые люди. Посредине огромной этой комнаты – стол со стульями. И больше ничего в ней не было. Хозяин – курчавый, энергичный (он так же энергично сменял одно доступное наслаждение другим) – раздал своим русским друзьям сигареты.
– Это всего лишь марихуана. Почти легально. Наслаждайтесь, – сказал он.
Молодые люди были в основном студенты, аспиранты университетов. И ещё два-три художника без бороды. Хозяин тут же куда-то исчез, словно он всё время куда-то торопился.
Игорь и Миша сели за стол. Все курили – медленно, как бы тихо – и разговаривали. Проблемы отсутствия формального контакта не было.
Игорь остановил свой взгляд на молодой женщине небольшого роста с очень белой кожей и живыми, нежными глазами. Последним она особенно отличалась от других. Она вдруг отъединилась от своего места и подсела к Мише.
– Меня зовут Клэр, – представилась она. – Хотя я итальянского происхождения. Я давно хотела познакомиться с русскими.
– Здорово, – ответил Игорь невпопад.
– Я люблю Россию. Но для меня она как Индия. Где-то совсем далеко. И вы, однако, похожи на нас, – засмеялась она почти звонко.
– Мы такие же и не такие, – сурово поправил Миша.
Но разговор как-то завязался сам собой. Даже Мише она чуть-чуть понравилась.
– А это мой бойфренд, – представила Клэр худощавого, но холёного молодого человека. – Он юрист, аспирант, но уже немного преподаёт.
Оказалось, что Клэр кончила университет по романской литературе, работы, конечно, нет и не будет, немного она художница, немного переводчица, иногда даёт частные уроки. Она много курила, зрачки её были уже расширены, глаза красны от напряжения, но говорила она правильно и, казалось, во всём контролировала ситуацию и ум свой.
«Чудна́я девка. Какая-то женственная, живая; так не похожа на американок. Те ведь абсолютно мужеподобные, какие-то сухие изнутри, как автоматы. И решительные. А эта другая. Каждое движение как у женщины, – молниеносно подумал Игорь. – Ну и ну».
Миша – и тот улыбнулся.
Они проговорили с Клэр целый час, не обращая внимания на других. Обменялись телефонами.
– Ну неудобно всё-таки. Пойду к остальным, – проговорил Миша и пересел на диван.
Там говорили о цивилизациях. О разных цивилизациях на земле, в истории и сейчас. И о том, как меняет цивилизация людей. Получалось, люди добры и одинаковы изначально (и внутри себя), но их «делает» та или иная цивилизация, поэтому они такие разные. Поэтому все простые люди, фермеры, живущие на природе, например, так похожи в разных цивилизациях друг на друга. Миша кивал головой…
Неожиданно в квартиру ворвалась целая компания молодых людей – вместе с хозяином. Были они немного иные – более толстые и напористые.
– Привет каждому! – заорал один из них, с банкой пива.
– Привет каждому, – более холодно крикнули другие.
Галдёж разразился в комнате, в квартире. Но всё было как-то целенаправленно, хотя и без всякой страсти. Погалдев и взяв трёх девочек с дивана, компания уехала.
– Куда они их взяли? – спросил Игорь у жены хозяина.
– Наверно, хотят подарить им много любви.
– А мне показалось, что они везут их в какую-то контору, для бизнеса.
– Может быть, и так. А какая разница? Любовь – тоже дело, а не времяпрепровождение.
Подошла Клэр.
– Мы уже собираемся уходить. Пойдёмте вместе?
Все четверо – Игорь, Миша, Клэр и её худощавый юрист – вышли на улицу. Холодный дождь моросил по небоскрёбам, влага стекала с крыш, точно промывая здания.
– Налево опасно идти, – предупредила Клэр. – Нам тут недалеко, только пару кварталов. А вы лучше идите так, – она махнула рукой. – И выйдете к метро.
Она протянула руку:
– Обязательно встретимся. Ведь мы теперь друзья.
…Около станции Игорь предложил Замарину:
– Давай возьмём вина и поедем в мою конуру. Хочу почитать тебе стихи. Я давно никому ничего не читал.
– Я устал, старик, извини. Как-нибудь в другой раз, – ответил Замарин, а сам подумал: «Пусть лишний раз почувствует, что он один. Он выдержит. Так надо».
Они расстались.
В маленькой однокомнатной квартирке Замарина было как-то темно, не светило даже из окна. Он зажёг свечи, потому что не выносил электрического света. Вынул из холодильника бутылку виски, налил полстакана. Включил небольшой старенький бело-чёрный телевизор: там шли фильмы ужасов. Не обращая внимания ни на что, он взял большую чёрную книгу из шкафа, лёг на диван и, отпивая виски, стал читать, изредка поднимая глаза на ужасы.
11
Андрей был потрясён разговором с Рудольфом. В душе поднимались волны чего-то невообразимого и отчаянного, великого и тревожного. В то же время была тяжесть на сердце, словно он предчувствовал катастрофу. Катастрофу не только личную, но какую-то чудовищную, глобальную катастрофу всего. Словно он, думая попасть, скажем, в какую-нибудь обычно-человеческую, пусть и с проблемами, страну, вроде Австралии, попал в неё, но оказалось, что это только видимость, а на самом деле вырисовываются черты какого-то жуткого подземного мира, в котором правят чудовища. И он попал в тотальную ловушку, из которой нет выхода.
Эта мысль была до такой степени невыносима, что он старался подавить её, думая о том, что, может быть, Рудольф неправ, что это просто какое-то преувеличение. И не надо делать выводов из его речей, достраивать неизбежное. Ведь не может же быть, чтобы реальная жизнь была до такой степени жестока, фактически кошмарна.
Лена реагировала на эту «встречу» более просто. Они шли по Пятой, любуясь небоскрёбами, водоворотом людей, магазинами.
– Это, конечно, провокация, – сказала она. – Типичная провокация. Не ломай себе голову, что это значит. Из всех ответов самый простой – самый верный. Молчи. Никак ни на что не реагируй. Прикинься эдаким дурачком, заоблачным интеллигентом, который не понимает, что творится кругом. Ни в коем случае не поддавайся на контакт. И, конечно, не будем говорить об этом в нашем номере.
– Хм, провокация. Но уж очень странно и страшно. Да и почему? С какой стати? Во-первых, что я за личность такая, чтобы устраивать какие-либо провокации? Ну понимаю, если б я был диссидент, политик, подозреваемый бог знает в чём, или ещё какая-нибудь знаменитость… Я же только начинаю здесь свой путь. А потом, уж очень как-то дико для провокации, необычно. У меня ощущение, что тут что-то не то.
– Говорю тебе: не ломай голову. Всё равно ничего не разгадаешь, – и Лена прижалась к нему. – Главное – молчать и молчать. О том, что внутри. Пока ведь ещё, слава богу, нет аппаратов, которые разгадывали бы мысли. В конце концов, здесь много хорошего…
После разговора с Леной Андрей ещё более уцепился за мысль, что всё это какое-то преувеличение и полуфантастика. Хотя какое-то страшное чувство реальности говорило в нём одновременно: ясно, что это так! Но он старался заглушить его. Лихорадочно принялся читать газеты. Смешно, но эта внутренняя истерия помогла добить английский. Бросился в библиотеки: к книгам, к книгам, к подтекстам, к намёкам. Нет, не всё так страшно. О да, конечно, всё страшно! Неужели мы погибли?!
К счастью для него, в это время – а уже прошло несколько месяцев со дня их приезда в Америку – произошли существенные сдвиги. В поисках интеллектуальных кругов Андрей обегал разные общества и университеты. Попал даже вместе с Леной на вечер к модной детской писательнице, куда было приглашено всего семь человек – в настоящую миллионерскую квартиру, о которой Лена подумала сначала, что это музей. Писательница к тому же интересовалась «духовным», и поэтому на этом вечере присутствовали два индуса. Они понравились Андрею и Лене больше всех, и им хотелось бы продолжить общение, но те уезжали в Индию.
Заглянул Андрей и в различные общества «духовного» плана. Но люди в них показались Андрею слишком ординарными, по крайней мере для таких обществ (он знал таких людей ещё по Москве, но те были слишком неординарны). Но зато эти американцы в таких обществах были весьма дружелюбны.
В университетах было более напряжённо и дифференцированно. Некоторые профессора поразили Андрея своим полным равнодушием не только к нему, но и ко всему. Другие – своими холодными глазами. Третьи были ничего, даже приглашали к себе. И вдруг – душа его даже вздрогнула – он увидел в маленьком кабинете на пятом этаже Нью-Йоркского университета человека, лицо которого как бы изнутри светилось неизъяснимым выражением доброты и любви.
– Кто это? – спросил он, поражённый, у своего знакомого американца, студента, русского по происхождению, который сопровождал его в этом походе в университет.
– О, это знаменитый писатель. Высокого класса. Его называют современным Торо. Он действительно один из лучших американских писателей на сегодняшний день. Очень глубокий.
– Я бы хотел с ним познакомиться.
– А почему нет? Попробуем. Я его студент. Он ведёт здесь «Основы литературного творчества» и английскую литературу. Но ты ведь сам писатель, да ещё и русский. Может быть, он заинтересуется.
– А как его зовут?
Студент назвал и добавил:
– Зови его просто Джим. У нас так принято. Здесь не Европа. Хотя он и шотландец по происхождению.
Они зашли в кабинет, где Андрей был удивлён живым интересом, который проявил к нему «современный Торо».
– У вас есть переводы ваших рассказов на английский? – спросил Джим.
…Встретиться договорились здесь же, в этом кабинете. Переводы у Андрея уже были – первые переводы, сделанные его другом Риви, тем самым переводчиком русской литературы, которого он встретил на своём первом вечере в ПЕН-клубе. С этим Риви у всех – и у Андрея, и у Генриха, и у Игоря – сложились довольно тёплые отношения. Он любил порассказать о своих встречах с самим Беккетом в Ирландии (кстати, у Андрея и Лены друзья были почему-то в основном кельтского происхождения). Риви – искусства ради – перевёл три рассказа Андрея. И потом они за это выпили.
Тексты были принесены Джиму. Он попросил зайти через несколько дней. Но позвонил сам, в гостиницу – Круговы всё ещё жили там.
– Это настоящая литература, Андрей, – сказал Джим. – Вы подлинный писатель, и это большая редкость. Я в этом кое-что понимаю и редко ошибаюсь в подобных вещах. Я опубликую ваши рассказы в своём журнале.
Как выяснилось, это был очень известный в американских литературных кругах журнал, где Джим был главным редактором. Джиму удалось втиснуть рассказы Андрея в текущий номер, который вышел довольно скоро. Это совпало и с разными русскими публикациями в журналах. Лена уже подрабатывала корректором (в том журнале, кстати, где царила «старая» эмиграция). А тут и Толстовский фонд неожиданно согласился оказать помощь, и они сняли свою первую квартиру в новом мире – небольшую, двухкомнатную, в Квинсе (в самом Манхэттене это было немыслимо из-за цен). Более того, Толстовский фонд согласился поддерживать их дальше, пока Андрей не найдёт работу, и уже все были согласны, что только в университете или в колледже. Ни Павла, ни Игоря, ни Генриха фонд так не поддерживал. Игорь получал вэлфер, Павел лихо подрабатывал везде, где только можно, в частности журналистом. А у Кегеянов работала Люба – на полставке в русской эмигрантской газете.
Встреча с Джимом в чём-то переменила жизнь Круговых. Он пригласил их в свой дом – жил он недалеко от Нью-Йорка, но в довольно глухом районе, среди фермеров (в Нью-Йорке же у него была квартира в Манхэттене). Там Лена и Андрей познакомились с семейством Джима – с женой, двумя сыновьями и дочерью. Все дети работали редакторами какого-то научного журнала.
И очень скоро эта семья уже принимала Круговых как родных. Это было чудо. Полное отсутствие формального, идиотически-равнодушного отношения – как в большинстве случаев. Оказалось к тому же, что Джим любит Россию. Во всяком случае, она интересовала его, чем-то влекла. А особенный интерес он питал к русской литературе и даже написал книгу о жизни Чехова, которого полюбил как своего сопутника, как близкого человека.
В доме и на квартире его удалось повидать много довольно милых интеллектуалов. Но таких, как сам Джим, не было. Он был единственный.
Познакомил Джим Круговых и с соседями-фермерами. Вместе они побывали в причудливом загородном баре. Фермеры очень понравились Андрею и Лене. Они были крепкие, кряжистые, загорелые и не походили на безумных ньюйоркцев, а главное – с симпатией, без всяких газетных клише отзывались о России.
– Зачем нам воевать? – говорил Андрею розовощёкий американец, даже уже не фермер, а просто житель маленького городка. – Что мы не поделили? Это всё политики крутят свою игру, а мы что? Народ с народом всегда сойдётся. Вы же такие же люди, как мы. Зачем мы будем бросать друг в друга атомные бомбы?
– Да, это абсурд, – соглашался Андрей.
Андрей и Лена изо всех сил поддерживали подобные речи и не уставали повторять, что Советский Союз и его народы не хотят войны, хотя повторять такое в Нью-Йорке они не решались («Сами эмигранты разорвут на месте», – замечала Андрею Лена). Джим, разумеется, тоже считал, что Америка и Советский Союз, при всей их разности, должны жить в мире любой ценой. В общем, наступало какое-то просветление.
– В целом эта цивилизация, конечно, жутковатая, – заключала свои наблюдения Лена, – но некоторые люди не поддаются ей. И среди интеллигенции, и среди студентов, и среди простых людей. А те, на которых лежит её печать, которых она сломила или подчинила себе, видит бог, – жутковатые типы.
– Таких явное большинство, – говорил Андрей.
– Почему? Нам не всё известно. Мы не знаем всей страны. Надо познавать дальше и дальше.
– Архетип-то тот же. Ну, посмотрим. Во всяком случае, это большинство, конечно, жертвы, независимо от того, понимают они это или нет. Ты же видела эти глаза в метро? Вот ведь кого надо, по существу, жалеть…
…Между тем основная их жизнь протекала в огромном городе. По ночам загорались огни, словно уходящий ввысь призрак – Манхэттен они теперь видели со стороны – охватывался огненным пламенем, подчинённым, однако, и контролируемым.
Уже было ясно, что на манифест советских сюрреалистов никто не реагировал. Большинство организаций уже давно ответили, остальные, видимо, и не собирались отвечать. Письма были негативные, но вежливые. В одном, правда, отмечалось, что «мы не намерены помогать – даже “неконформистам”».
Но больше всего Андрея мучила и доводила до бешенства патологическая ненависть к его родине, которая сквозила в американских газетах, журналах и книгах, ненависть совершенно звериная и как будто необъяснимая. Больше всего поражало, что она часто касалась не только «системы», но была направлена на страну в целом, на её людей. Они с Леной думали, что все обычно обвиняют «системы», правителей, цивилизации, но не самих людей. Ибо это уже походило на совершенно нелогичное, расистское человеконенавистничество. В то время как на словах твердилось, что здесь «демократия» и что расизм – чудовищное преступление. Эта ненависть не имела никакого реального основания и внешне походила на болезнь, на сумасшествие, на злобу бешеного животного, которое не понимает, что с ним происходит. Андрей даже боялся рассказывать Лене о таком.
Но ещё раньше этих открытий он постепенно стал видеть в своей душе неожиданное, знакомое ещё по прошлому, но получившее невероятное новое качество чувство, ставшее как бы частью его души. Он стал замечать, что постоянно вспоминает о Москве, о русских деревнях, о своих друзьях, о людях в своей стране. Даже лица почти забытых, почти незнакомых ему людей, всплывающие в памяти, становились бесконечно дорогими, словно он молился за всех них. Всё, что раньше, когда он был там, на родине, почти не замечалось, вдруг точно открывалось снова – своей невероятно глубинной, до высшей бездны, стороной. «И как я не понимал этого раньше, – думал он. – И не я один, другие – тоже. А теперь я вижу это, вижу…»