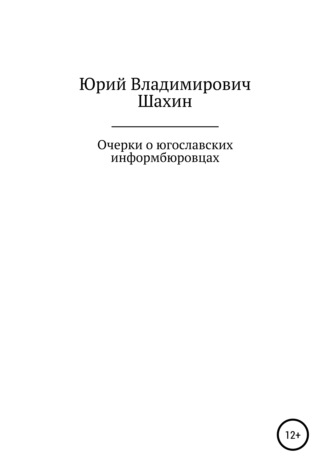
Юрий Владимирович Шахин
Очерки о югославских информбюровцах
Тем не менее, указанное заседание Политбюро ЦК КПЮ дало импульс новой кампании репрессий. По мнению Тито, случай Жигича и Бркича требовал выявить имеющуюся в повстанческих краях вражескую агентуру147. Затем, группа ЦК КПХ обследовала положение в Далмации. После этого партия начала заострять линию в отношении Информбюро148. Отчет группы обсуждался на заседании Политбюро ЦК КПЮ 13 ноября 1950 г. «В слабой борьбе против информбюровцев виноваты и мы… С этим нужно покончить», – заявил Тито и добавил, что в Далмации не нужно жалеть людей149. После этих указаний руководство ЦК КПХ немедленно приняло меры.
16 декабря Анка Берус доложила об очередном обследовании обстановки в Далмации. При этом она выдала два примера шпиономании. «Есть небдительность к Информбюро… Есть исключенные [из партии] информбюровцы на местах, и не ведется борьба против них. Борьба против Информбюро рассматривается как дело УДБы. Этим сужена база борьбы против них»150. А следующее высказывание Берус это не просто нагнетание, а яркий образец гнусной полицейской логики: «Суды мягко наказывают за разные нарушения, а когда и вынесут наказания, они очень часто не выполняются. Верховный суд очень часто отменяет наказания вынесенные низшими судами. Адвокаты имеют большое влияние на судей. Прокуратура понимает свою роль как защитника народа от власти, а не помощника власти в осуществлении ее задач»151.
Кампания преследования информбюровцев в Далмации активно нагнеталась Политбюро ЦК КПХ с декабря 1950 и вплоть до марта 1951 г. Параллельно проходила зачистка от информбюровцев в Удбине, родном крае Жигича. Прижатый сверху секретарь далматинского обкома Анте Рое своим рвением в борьбе превзошел УДБу. Он стремился провести беспорядочные аресты, а УДБа его сдерживала152. В протоколах Политбюро ЦК КПХ это единственное подобное замечание! Обычно наблюдались стандартные жалобы, что партия менее активна, чем спецслужбы. Их было много и в период далматинской кампании. С особым вдохновением призывы к всенародной охоте на ведьм, к которой бы подключились и партия, и общественные организации, и широкие народные массы, озвучивали Иван Краячич и Звонко Бркич153.
Как стимулировалось участие в охоте на ведьм, показывает следующий пример, о котором мы знаем из документов 1953 г. Некто Панза Брнэ – секретарь парткома в котаре Синь попал под подозрение как информбюровец. Он знал об этом. И чтобы отвести от себя подозрение и избежать ареста Брнэ вынужден был усердствовать в преследовании информбюровцев в своем котаре, в результате чего пострадала масса невинных людей. Тогда в Синьском котаре «арестовывали, исключали, наказывали кого-либо, по кому не было каких-либо убедительных доказательств»154. Показательно, что об этом случае знало высшее руководство республики, но ничего не сделало, чтобы ограничить травлю людей в Сине. А когда в июне 1953 г. коллеги из парткома обвинили Брнэ во вредительстве, что он информбюровец и специально подрывал авторитет партии немотивированными репрессиями, Исполком ЦК Союза коммунистов Хорватии взял его под защиту, а Бакарич даже перенаправил удар. По мнению Бакарича на партконференции в котаре Синь нужно разобраться не в том, является ли Брнэ информбюровцем, а как вообще его додумались в этом обвинить.
Для справки отметим: против Панзы Брнэ свидетельствовали три бывших «мермераша» и приписывали ему «вербальный деликт»: якобы что-то где-то ляпнул, и якобы в его присутствии пели русские песни!155 Конечно, в октябре 1953 г. активная фаза охоты на ведьм уже прошла, но в разгар кампании Политбюро вело себя иначе. В той же Далмации оно совершенно не смущалось, когда обвиняло тех или иных людей в поддержке Информбюро просто на основе слухов156. Случай П.Брнэ мы описали так подробно потому, что среди ортодоксальных сталинистов по-прежнему встречаются попытки взвалить вину за репрессии на «врагов народа», которые специально уничтожали невинных людей. В действительности, как показывает изложенный пример, за этим может стоять сознательное использование страха потенциальных жертв высшим руководством.
В ходе далматинской кампании остро встал вопрос об отношении к информбюровцам, вышедшим из лагерей. Повод для нагнетания подал член ЦК КПХ Анте Юрьевич, более известный по партийной кличке Бая. На городской партконференции в Сплите он примирительно отозвался об освобожденных информбюровцах, а затем повторил свою позицию в обкоме. Во время критики на заседании Политбюро 16 января 1951 г. Антун Бибер изложил позицию Баи-Юрьевича и прокомментировал ее так: для него «главное, что коминформовец сейчас хорошо работает, и ему неважно, какое он имел прошлое. Этого не достаточно. Нужно знать, что это люди, которые уже однажды отошли от нашей партии»157. В тогдашних условиях это был настораживающий намек. Но Бакарич поспешил успокоить Юрьевича и всполошившегося секретаря обкома Рое, что Баю не подозревают в сочувствии информбюровцам, просто обком не имеет четкой линии.
На последующих заседаниях Политбюро постаралось, чтобы эта четкая линия появилась у всех. 2 февраля Звонко Бркич несколько раз призвал ужесточить отношение к «мермерашам»: разоблачать, усилить гонения и не смотреть на них как на политические жертвы, или как на реабилитированных158. А вот более развернутая оценка: «Всякий тот, кто прошел «Мрамор», но не выдвинулся в работе больше, чем другие, поскольку недостаточно, чтобы он просто работал как остальные, он должен своим трудом и политической активностью, разоблачением империалистической политики СССР доказать, что действительно исправился. Этих «мермерашей» необходимо посылать на физические работы на малые фабрики. С ними могут проводиться и групповые встречи и открыто им и ясно говорить, поскольку Информбюро укрепляется в их среде, что они не стремятся, а обещали нам, что будут стремиться работать, и если неактивны, тогда их нужно снова отправить на «Мрамор»»159. Таким образом, запугивания информбюровцев не должны были прекращаться после выхода из лагеря.
А вот как творчески восприняли курс, провозглашенный З.Бркичем, в Истре. 26 апреля 1951 г. Бакарич доложил, что там сложился такой «метод руководства» информбюровцами: «Существует классификация информбюровцев: I группу арестовать, II избить, III изолировать, IV учет. Информбюровцев вызывали в комитет и колотили их»160.
В пятый раз вмешательство союзного Политбюро фиксируется в январе 1952 г. З. Бркич отчитывался на заседании Политбюро ЦК КПХ о встрече, состоявшейся в ЦК КПЮ. Заседание имело место 15 января 1952 г., однако в Архиве Югославии оно ошибочно датировано 1949 годом161. Там рассматривалось положение в вузах, и было отмечено, что «демократизация понята так, что всякий делает, что хочет, враг оживился, не замечаются методы работы ИБ. Большинство информбюровцев проповедует, что не будет заниматься политикой». Поскольку речь шла в основном о бывших информбюровцах, которые пытались возобновить обучение после выхода из лагерей, Политбюро ЦК КПЮ приняло ряд решений и в частности такое: «Каждого информбюровца подвергнуть контролю, все мермераши162 не могут быть приняты на факультеты»163. Хорватское Политбюро ограничилось тем, что приняло эту информацию к сведению.
Таким образом, все пять случаев, когда Политбюро ЦК КПЮ непосредственно занималось информбюровцами и доносило свою позицию до хорватского руководства, характеризуются нагнетанием обстановки и усилением репрессивного курса.
То же самое мы наблюдаем в Словении. В этой республике информбюровцы не отличались особой активностью. Поэтому в нашем распоряжении есть только два примера влияния из союзного центра – один косвенный, другой прямой.
Первый случай датируется концом 1950 г. 14 ноября на заседании Политбюро ЦК Коммунистической партии Словении присутствовал член Политбюро ЦК КПЮ Борис Кидрич. Скорее всего, его приезд был связан с разбором националистического поведения словенского писателя Э. Коцбека. Тем не менее, он принял участие в заседании, где был поставлен более широкий вопрос – о внутреннем положении Словении. Протокол не фиксирует, чтобы Кидрич непосредственно говорил об информбюровцах. Инициативу на себя взяла докладчица – Лидия Шентьюрц. Она констатировала мягкое и терпимое отношение к информбюровцам и предложила его ужесточить, усилить бдительность, углубить в партии политическую работу, бороться с прослушиванием информбюровских радиостанций164. В резолюции Политбюро так и записало: «Сильно обострить борьбу против влияний информбюровской пропаганды и жестко обратить внимание с[резных] к[омитетов], чтобы заново проанализировали информбюровские влияния и не убаюкивали себя, что информбюровцев нет»165. К тому времени в Словении исключили из партии за поддержку Коминформбюро только 317 человек, и по-видимому, кому-то это число показалось слишком незначительным. Не прошла и неделя, как 20 ноября 1950 г. на новом заседании Политбюро ЦК КПСл еще более жесткие призывы огласил министр внутренних дел Б. Крайгер: «Вопрос Информбюро. Во всей нашей борьбе недостаточно остроты, нужно поставить эту проблему.… Есть много признаков скрытых информбюровцев, а партийные организации их не раскрывают, потому что борьба против информбюровцев шаблонная». Выходит, что по мнению Крайгера враг есть, а если его не обнаружили, значит, не искали. Политбюро не возражало против этой установки на шпиономанию и постановило: «6. Против всех форм деятельности Информбюро обострить бдительность, особенно в молодежных и партийных организациях»166.
Второй случай, когда Политбюро ЦК КПЮ стимулировало кампанию охоты на информбюровцев в Словении, однозначен, и сомнений в его причастности не вызывает. В январе 1951 г. был арестован Душан Майцен – полковник, начальник кафедры артиллерии высшей Военной академии в Белграде. По происхождению он был словенцем. Это самая высокопоставленная жертва среди словенцев-офицеров за весь период репрессий167. В том же месяце закончила работу группа ЦК КПЮ, изучавшая обстановку в Словении. В итоге в январе 1951 г. состоялось заседание Политбюро ЦК КПСл с участием таких членов союзного политбюро, как Б. Кидрич, Мома Маркович, М. Джилас и А. Ранкович. К сожалению, в протоколе не сохранилась точная дата заседания, и мы можем сказать лишь, что оно прошло между 20 и 31 января.
Мома Маркович заявил: «Информбюровские лозунги нашли в массах благоприятную почву». Затем отметил «убаюканность по вопросам Информбюро. Не видят работы Информбюро в информбюровских лозунгах». Джилас тоже призвал к усилению борьбы против информбюровцев, указав на бюрократию, как на целевую группу репрессий. Свой посильный вклад в дело внес и Ранкович: «Информбюровских проявлений было меньше всего в Македонии и Словении, но нужно бороться, чтобы не было никаких оснований для ИБ. Заострить также в вопросе прослушивания радио информбюровских станций»168.
Получившие толчок со стороны Политбюро ЦК КПЮ словенские политики уже 2 февраля собрались на заседание республиканского Политбюро, где обсудили отчет о деятельности информбюровцев и обнаружили стремление броситься в решительный бой. Хотя докладчик Борис Крайгер продемонстрировал фактами, что никакой проблемы информбюровцы не представляют, и речь идет лишь об изолированных индивидах, которые ничего не делают, его выводы резко контрастировали с содержанием доклада. «По информации УДБы есть проявления Информбюро во всех срезах и предприятиях. Зарегистрировано около 500 информбюровцев, находящихся на свободе. Мы должны были бы их арестовать, потому что они связываются, выражают и распространяют информбюровские вести. Есть и различные функционеры, которые проявляются не явно, но только в закрытых обществах. Среди них большинство трусы и оппортунисты, а также социал-демократические элементы. Выявлено около 200 русских агентов, которые действуют в различных учреждениях, которых не арестовывают, потому что мы не можем им доказать [вину], чтобы их суд легко осудил, хотя признаки совершенно ясны. Причина – отчасти объективные условия, важный фактор и факт, что политической борьбы против Информбюро было очень мало, поэтому они легко скрываются». Последнюю мысль Крайгер повторил еще раз: «Расследование и диагностика информбюровцев тяжелы… потому что они очень осторожны»169. Итак, враг по Крайгеру есть, но раз его не выявили, значит, плохо ловили. Крайгер призвал привлечь к этой охоте членов партии, а не ограничиваться усилиями одной УДБы. В итоге Политбюро приняло резолюцию с призывом «усилить боевую бдительность»170. Любопытно, что по устным сведениям, которые собрал Дедиер, за Крайгером закрепилась репутация человека, который стремится спасти каждого, на кого пала тень подозрения в сочувствии Информбюро171.
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В БОРЬБЕ С ИНФОРМБЮРОВЦАМИ
Политбюро ЦК КПСл устраивало кампании охоты на ведьм и в тех случаях, когда сведениями о прямых импульсах из Белграда мы не располагаем. Первый раз оно это сделало в начале августа 1948 г. Министр внутренних дел Б. Крайгер выступил в качестве докладчика: «Также необходимо… заострить нашу линию в отношении всех колеблющихся элементов, которые обнаружились особенно в связи с резолюцией Информбюро. Всем этим колеблющимся элементам мы не должны позволить залечь на дно и замаскироваться, но должны с ними энергично расправиться. Это касается особенно наших агитационно-пропагандистских кадров, партийцев в различных редакциях и прочих просветительных учреждениях, которые в целом в связи с последними событиями показали себя наиболее колеблющимися и несолидными»172. Специальных решений не приняли, но против предложений Крайгера никто не возражал. Наиболее масштабную акцию в просветительных учреждениях Политбюро инициировало в январе-феврале 1949 г., когда устроило погром в Люблянском университете. С подачи Политбюро университетская парторганизация была распущена, затем прошли аресты некоторых преподавателей. В ходе этой кампании Иван Мачек сокрушался, что процент исключений из партии за Информбюро слишком мал, что парторганизации слишком мягки и либеральны. Борис Крайгер требовал массированного общественного давления на потенциальных сторонников Информбюро и сомнительных типов в университете при том, что после роспуска парторганизации только один человек высказался за СССР, а еще один позволил себе роскошь иметь собственное мнение, за что и был записан во фракционеры173.
18 февраля 1949 г. Политбюро ЦК КПСл озаботилось положением в профсоюзах. В ходе дискуссии оно коснулось информбюровцев. Было высказано предложение усилить борьбу против них, обратив внимание на профсоюз учителей, потому что «здесь вопрос ИБ наиболее жгучий и его нужно обострить и жестко поставить, только по партийной линии этого недостаточно»174. Решено было привлечь к кампании охоты на ведьм и профсоюзы. Затем, в дискуссии было высказано мнение, что все противники режима действуют теперь под покровом Информбюро175. Автор этой мысли в протоколе не отмечен, но ее поддержали в Политбюро. В решениях заседания было указано: «В плохом отношении к работе, в транжирстве материала, в нарушении дисциплины, в сопротивлении введению норм и в других подобных вредительских деяниях нужно усматривать действие всех возможных классовых врагов от остатков социал-демократизма и до клерикализма, которые все служили всевозможным антинародным режимам, оккупантам, агентам западного империализма и т.д., которые и сейчас обычно прячутся под покровом Информбюро. Углубление фронта борьбы против всех явлений, которые затрудняют выполнение плановых заданий, нужно рассматривать как борьбу с Информбюро»176. Эта формулировка позволяла подвести под деятельность Информбюро все негативные явления на производстве и любые проступки. Тем самым понятие «информбюровец» растягивалось до бесконечности, и его можно было использовать для запугивания кого угодно. Но даже при такой сверхрасширительной трактовке за все время репрессий осуждены по линии Информбюро не более 567 словенцев177.
Значительную инициативу по усилению охоты на ведьм проявляло Политбюро ЦК КПХ. Поскольку в Хорватии информбюровцев было больше, чем в Словении, кампании республиканского руководства отличались куда большим размахом.
Первый признак шпиономании в протоколах Политбюро ЦК КПХ фиксируется уже 3 июля 1948 г. В первичках обсуждалось решение ЦК КПЮ об исключении из партии обвиненных в поддержке СССР членов союзного руководства А. Хебранга и С. Жуёвича. Политбюро пришло к выводу, что в Загребе и Дубровнике среди партийцев были колебания врагов и обиженных. При том открыто никто из этих лиц не высказался, «но их выдает их неуверенное поведение»! Таким образом, если член партии не принимает решений руководства с бурной решимостью, он уже находится на подозрении178.
13 июля 1948 г. организационный секретарь ЦК КПХ Антун Бибер выступил на Политбюро с докладом о реакции в партии на резолюцию Коминформбюро. Бибер считал, что не время публично осуждать информбюровцев как «нездоровые элементы». Ему возразил первый секретарь Бакарич. Он призвал к ужесточению политики в отношении информбюровцев, предлагая подводить их деятельность под фракционную работу. «В конце он выделяет, что тех, кто не согласен с линией партии, нужно выгнать из партии»179. Указания Бакарича были оперативно воплощены в жизнь, и уже через три дня начались гонения на факультетах Загребского университета. Обвиняемым в поддержке Коминформбюро вменялась в вину именно фракционность180.
В августе 1948 г. Политбюро занялось искоренением информбюровцев в Риеке и Истре, где у них были сильные позиции. В Риеке начали искать мифический центр, в Ровине обратили внимание на недопустимую мягкость парторганизации: вместо того, чтобы осудить и гуртом исключить из партии обвиняемых в поддержке Коминформбюро, там по каждому человеку устроили голосование. Возмущенный таким подходом Бакарич предложил «изучить всю организацию»181.
25 сентября Политбюро ЦК КПХ разработало «Постановление о мерах, которые нужно предпринять для успешного ведения борьбы против антипартийных элементов, которые активизировались по линии резолюции Коминформбюро». Этот документ почему-то подшит к протоколу за 22 октября 1948 г. Он заслуживает обширного цитирования, потому что фактически определил направления борьбы с информбюровцами в республике на ближайшие годы.
«1. Заострить позицию всей партийной организации в отношении антипартийных элементов, как врагов партии и государства, вести борьбу за их полную изоляцию от членов партии и прервать любые связи с ними – личные, дружеские и т.п. Поддержание связей с антипартийными элементами нельзя оправдать ничем, и исходя из этого и личной дружбой.
2. Заострить борьбу в отношении деятельности тех элементов, которые выпали из партии до резолюции Информбюро или после того как высказались за резолюцию Информбюро […].
4. Воспрепятствовать любому взаимному связыванию по линии Коминформбюро, как было в случае с Цриквеницей, в Загребском университете. Такие связи нужно предотвращать всеми мерами, перемещениями и т.д. Студентов, которые проявят активность в антипартийной деятельности, нужно исключить из университета. Так же нужно поступить и с учениками.
5. Усилить бдительность в отношении т.н. колеблющихся, которые позволяют себе по несколько раз ставить тенденциозные вопросы и дискутировать о них с другими членами партии и таким путем оказывать негативное влияние на молодых членов партии. Перед членами партии нужно поставить открыто и ясно – кто не защищает позицию нашего ЦК, кто пассивно наблюдает деятельность антипартийных элементов – тот не придерживается твердо линии нашей партии»182.
12 января 1949 г. Политбюро ЦК КПХ обсуждало политическую обстановку в республике. Реферат подготовленный к заседанию упоминал о единичном случае деятельности информбюровцев: в Пуле раскрыли группу состоявшую из членов партии. Однако информбюровской тематике участники заседания отвели очень много места. А. Бибер, который видимо и подготовил доклад, воспевал пользу от заострения разбирательства с колеблющимися элементами, поскольку такой курс позволил выявить затаившегося врага. Также он заявил: «…Сторонники Коминформа все больше активизируются и связываются между собой. Стремятся замаскироваться, остаться в партии и действовать по линии Информационного бюро. У них главная линия – собирать данные о различных нарушениях, делать пассивными массы и систематически разрушать авторитет партийных руководителей»183. Здесь перед нами образец того клише, которым потом припечатали Жигича. Обстановку продолжал нагнетать Иван Краячич: «…Нужно во всех сферах развить бдительность и посмотреть вокруг себя: не прячутся ли колеблющиеся вражеские элементы. На совещании секретарей комитетов184 нужно остро поставить линию и задачи. Факт, что сторонники Информационного бюро становятся все более активными и скрываются». В ту же дуду дул будущий информбюровец Жигич: «По вопросу сторонников Информационного бюро коммунисты недостаточно остры и терпят различных колеблющихся и вражеские выпады»185. Информбюровцы в тот период действительно проявляли повышенную активность и формировали сеть подпольных групп. Однако в оценках Политбюро ЦК КПХ ярко проступает логика шпиономании: поскольку давление на колеблющихся было усилено, возросло количество репрессированных, и этот результат усиления охоты на ведьм подавался как разоблачение реальных действий реального врага. При чем не только подавался, но и воспринимался так самими членами Политбюро. Следствие всерьез воспринималось как причина.
4 февраля 1949 г. Политбюро занялось единичными случаями. М. Белинич и Бибер доложили об отдельных людях, вызвавших у них подозрение по линии Информбюро. Всего они назвали 11 человек, по которым Политбюро решило провести расследование, но интересно, почему некоторые из них попали под подозрение. Были три женщины, чьих мужей арестовали как информбюровцев или советских шпионов. В отношении одной из них мы точно знаем, что ее потом признали виновной и исключили из партии. То есть югославские сталинисты разделяли мнение своих советских коллег, что муж и жена одна сатана. Наконец под подозрение попал помощник министра просвещения Ёсип Лукатела. В этом случае Политбюро решило: «Нужно подготовить материал для реорганизации министерства и чистки всех тех, в ком есть сомнение, что они скрывают свое отношение к Коминформбюро»186. И здесь у югославских сталинистов повторилась логика советских коллег: если начальник под подозрением, то и его подчиненные тоже. Впоследствии В.Бакарич сообщил, что к сентябрю 1950 г. министерство просвещения пережило пять чисток187.
18 февраля Политбюро опять подтвердило курс на чистку министерства просвещения. Затем раскритиковало Агитпроп: «В нашей печати, как враждебные элементы, так и неопытные наши товарищи, писали вещи, которые соответствуют линии Информбюро». Затем получили удар работники радиостанции за то, что там информбюровцев выявила УДБа, а не парторганизация. Стимулируя охоту на ведьм, Бакарич предложил «привлечь к ответственности партийную организацию» за отсутствие бдительности. Наконец еще одно проявление шпиономании доходящей до абсурда продемонстрировал член ЦК КПХ Мика Шпиляк. Он пожаловался, что в университете, средних школах, ПТУ и даже в партизанской гимназии проявляется «небдительность» к информбюровцам. В чем же именно? По словам Шпиляка: «Допускается свобода вражеской критики»188.
Затем в нагнетании охоты на ведьм по собственной инициативе у Политбюро ЦК КПХ наступил перерыв, который заполнялся импульсами из Белграда. Следующая крупная кампания Политбюро ЦК КПХ, у которой пока не выявлено исходной инициативы Политбюро ЦК КПЮ, прошла в ноябре 1951 – январе 1952 г. Она была направлена на Славонию. 21 ноября 1951 г. М.Шпиляк, С.Комар и З.Бркич осудили местные парторганизации, которым кажется, что информбюровцев в Славонии нет. По мнению членов Политбюро информбюровцы там точно есть. Кроме того, З.Бркич и Белинич осудили парторганизации за то, что они отдали инициативу выявления информбюровцев УДБе189. 9 января 1952 г. Милка Куфрин выступила с критикой парторганизаций в Осиеке и Славонской Пожеге. Особенно досталось Пожеге: «Мы считаем, что к[отарский] к[омитет] своей толерантностью к информбирашам, своей примирительностью к ним объективно помогал этим врагам и что своей политикой спасения отдельных информбюровцев привел к их распространению и пропаданию партийной организации. Члены КП потеряли перспективу и деморализованы, когда против откровенных врагов ничего не предпринималось»190. Видимо, чтобы облегчить задачу, Куфрин предложила понимать информбюровцев как универсальных козлов отпущения, и связывать с их деятельностью не только возгласы за Сталина, но и «распространение деморализации, разброда, пассивности и неверия в наши силы, распространение шовинизма и т.д.»191.
С весны 1952 г. Политбюро ЦК КПХ надолго утратило интерес к информбюровцам. Последний всплеск внимания к ним был уже не у Политбюро, а у Исполкома ЦК Союза коммунистов Хорватии в декабре 1954 – январе 1955 г. Поводом послужил беспрецедентный случай. Осенью в Кострене (район Риеки) был выявлен информбюровец Смоквина, скрывавшийся от ареста с 1949 г.! Горком Риеки по привычке метал молнии: «Характерны были представления членов С[оюза] к[оммунистов], что обнаружение Смоквины дело не членов [партии], и не людей из Кострены, а кого-то другого»192. Горком предложил распустить парторганизацию Кострене, но Исполком ЦК проявил мягкость и решил сперва разобраться. В январе Исполком еще раз вернулся к информбюровцам в связи с их принятием в партию, и на этом упоминания о них прекратились.
Кампания охоты на информбюровцев очень сильно напоминает советскую практику 1930-х гг. Логично было бы предположить, что она увенчается показательными судебными процессами. Они действительно были, но сильно уступают по размаху советским.
В июне 1950 г. на суд были выведены Владимир Дапчевич – полковник, политический комиссар Военной академии и Бранко Петричевич (партийная кличка Каджя) – генерал-майор, заместитель начальника Главного политуправления Югославской армии, обвиняемые в попытке бегства заграницу. Попытка была предпринята еще в 1948 г., вина обвиняемых не вызывала сомнений, но на суд их вывели спустя два года. Показательный процесс тогда не удался. Дапчевич, убежденный, что нужно бороться с режимом Тито, использовал его как трибуну для деклараций и разоблачений193.
Следующая попытка устроить судебный спектакль была предпринята через год. Она была успешной, но ее жертвами оказались гораздо более скромные фигуры. 5 октября 1951 г. начался судебный процесс по делу 14 человек во главе с инженерами Б. Путником и Н. Турудичем. Им поставили в вину шпионаж в пользу СССР. Но, пожалуй, центральным на процессе было обвинение в саботаже, на который вдохновляли обвиняемых советские спецслужбы. Этот саботаж, по версии следствия, воспрепятствовал своевременному завершению строительства двух железнодорожных веток. Обвиняемые были признаны виновными, а Путник и Турудич приговорены к смертной казни, но помилованы. Впоследствии выяснилось, что они были невиновны, а весь процесс – сфабрикован194. Процесс был открытым, широко освещался, на нем присутствовали даже иностранные журналисты. Причины постановки этого спектакля именно осенью 1951 г. легко понять. Еще в 1950 г., учитывая экономические трудности, поразившие страну, Союзная Скупщина на год продлила выполнение первого пятилетнего плана, превратив его в шестилетний (1947-1952 гг.). Но в 1951 г. стало ясно, что плановые задания все равно не могут быть выполнены. Партия и правительство провалили пятилетку и теперь искали козлов отпущения, пытаясь свалить вину на мифический саботаж мифических советских агентов, шпионов и диверсантов.
ВОЗМОЖНО ЛИ БЫЛО СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕПРЕССИЯМ?
Оставлял ли репрессивный механизм какие-нибудь возможности для сопротивления идущему сверху давлению? Этот вопрос требует более детального разбора, но предварительный ответ будет скорее негативным. По информации советских дипломатов уже в начале конфликта СССР во все парторганизации были назначены уполномоченные УДБы. «Перед ними ставилась задача выявлять на местах сторонников Информбюро»195. Такую задачу перед ними действительно поставили с началом конфликта, но есть данные, что начальник УДБы соответствующей административной единицы входил по должности в местный партийный комитет еще до этого события196. В начале конфликта партийные руководители настаивали, что УДБа по всей стране работает под контролем партии и в частности ее коллегиальных органов197. Впрочем, в Хорватии эта служба обладала к началу конфликта известной автономией. УДБа подчинялась МВД, а министром внутренних дел Хорватии был Иван Каячич, который вследствие дружбы с Тито держался очень независимо198.
Но каким бы ни было положение по состоянию на 1948 г., в дальнейшем мы видим иное соотношение. Стенограмма заседания Политбюро ЦК КПХ, где разбирали дело Жигича, а это был август 1950 г., приводит к выводу, что контроль над УДБой был лишь у одного человека в Хорватии – первого секретаря ЦК КПХ Владимира Бакарича. Бакарич прямо опирался на спецслужбы и не ставил в известность о своей работе с ними даже членов Политбюро. Он даже мог распорядиться провести обыск в квартире члена Политбюро без ведома республиканского ЦК, как, например, это случилось у Марка Белинича. То, что сам Бакарич называл обыск у М. Белинича всего лишь «визитом», значения не имеет199. По-видимому, такое же положение сложилось и в других республиках.
На местном уровне спайка партийных функционеров и спецслужб была не менее тесной. Известны шокирующие случаи, когда партия, УДБа и гражданские органы власти взаимно покрывали друг друга. В котаре Джаково в 1948-1949 гг. злоупотребляли служебным положением в личных интересах члены котарского и городского комитетов партии, директора государственных сельхозимений и некоторые должностные лица народных комитетов. Их сотрудничество разрушила только анонимная жалоба, дошедшая до ЦК КПЮ200. Но порой и жалоба на таком уровне не гарантировала успеха. В котаре Кланец Загребского округа котарский и окружной комитеты покрывали своих коллег из УДБы, на которых поступила жалоба маршалу Тито. Котарский начальник УДБы и его окружной начальник ориентировочно в 1947-1948 г. завладевали имуществом арестованных, били их и даже убили троих человек. Но партийные органы пытались замести следы их преступлений, сообщая в республиканскую УДБу и ЦК КПХ заведомо ложные сведения. Каким-то случайным образом это все открылось, и виновные понесли наказания. Интересно, что окружной начальник УДБы был наказан по партийной линии мягче, чем его котарский подчиненный, хотя партийная комиссия и признала, что инициатива преступлений исходила именно от него201.




