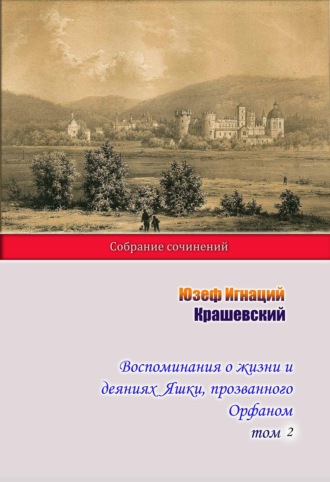
Юзеф Игнаций Крашевский
Воспоминания о жизни и деяниях Яшки, прозванного Орфаном. Том 2
© Бобров А.С. 2022

Том III
Когда после стольких минувших лет мысль моя достигает давних времён моей молодости, пробегает события и людей, с какими я пересекался в жизни и общался, поистине только тогда я считаю пережитые и так быстро прошедшие десятки лет и чувствую, какое пространство за мной.
В течение моей жизни почти всё изменилось к лучшему или к худшему, но судить об этом я не смею, знаю только то, что люди и их дела сейчас выглядят иначе.
Королю и пану нашему Казимиру с трудного начала правления вплоть до последних дней было необходимо бороться и справляться с таким множеством проблем, а он выдержал их, и справился так удачно, что нужно удивляться его силе и выносливости. Завидуют монархам, их счастью, а не знают, что у них больше работы и забот, чем у какого-нибудь подёнщика, отдыха же – никогда, а благодарности дождутся только после смерти, пожалуй.
В эти мои времена было и плохого много и хорошего столько, что трудно понять, что это вместе одно время и одна земля могли выдать.
Мы видели, как рядом проходят и пересекаются друг с другом такие мужи, как те святые и благословенные: Кант, Шимон, Святослав, Гедроиц Михал; а тут же рядом с ними Пеняжков, Шавранцев, смутьянов, рассеянных по дорогам, умного Остророга, учёного Длугоша рядом с бездельниками, стремящимися к высшим должностям; Грегора из Санока, Рзешовского, рядом духовных лиц, недостойных ни имени, ни капелланского облачения.
Сама былая простота обычая, какую мы особенно запомнили в Литве и Мазовии, при наплыве чужеземцев и путешествующей в чужие страны молодёжи, которая привозила всё новые изобретения, одежду, привычки в города и особенно на двор, совсем канула в Лету.
С итальянцами и другими чужеземцами к нам попала женоподнобность, привезла её также немного королева из Вены вместе с хорошими манерами.
Когда раньше волосы на голове у мужчины так росли и лежали, как Бог дал, а под шлем, чтобы не мешали, их подрезали, в мои времена начали пречёсывать, укладывать в локоны, опускать на плечи, так что издалека при длинной одежде длинноволосого мужчину часто можно было принять за женщину. К месту добавлю, что королева Елизавета дала стимул и к этому обычаю своим детям, Владиславу с красивым лицом и Казимиру, которые имели на удивление обильные и красивые пряди, ухаживали за ними, отпускали и приказывали старательно каждый день их укладывать.
Затем за ними пошла придворная молодёжь, а за ними другие.
Это выглядело не по-рыцарски, а старые мужи удивлялись этому и смеялись, но юношей это забавляло. Из Италии привозили обычай носить длинные платья, обшитые лентами и всяким окаймлением, петлицами, вышивками, верёвками, пуговицами, за которые нужно было дорого переплачивать.
Краковские купцы привозили то всё более новые и разные ткани, то своеобразные цвета, то узоры, притягивающие взгляды, требовали за них большие деньги и получали их.
Каждый хотел превзойти другого, и на больших праздниках выступить так, чтобы затмить других и обратить на себя взгляд. То, что раньше уходило на коня и доспехи, теперь давали на шёлк, парчу, шитьё, которые потом напрасно залёживались в сундуках.
Старые люди также упрекали женоподобность не только тела, но и сердца молодёжи, ради которой везли наряды и одежду. Потому что в человеке всё имеет значение: и то, что ест, и то, во что одевается, в чего наряжается и чего любит.
Это тщеславие и желание выступить вели за собой постоянную потребность в деньгах, за этим шло то, что не разбирались в средствах их приобретения. Мы видели тогда могущественных панов, потомков великих семей, которые потом выходили на тракты, обворовывали купцов; других, занимающихся недостойной торговлей из-за денег; чеканивших фальшивую монету; зарабатывающих симонией должностей, чтобы служить не костёлу и королю, а себе самим и жадным людям.
Обычаи смягчились, это правда, умы разгладились, но рыцарский дух угас. Уже тех древних Завишей, рыцарей Локетка и Болеслава, которые трудились ради славы и доброго имени, было всё меньше.
В мои времена проще было стать учёным, красноречивым мудрецом, чем простым и храбрым солдатом, который бы и слушать хотел, и приказывать умел.
Это всё менялось на глазах; раньше мало кто из мирян умел читать и писать, а каждый пан возил с собой канцлера, чтобы он за него это делал, сам присматривал за одной только печатью, которую ставил вместо подписи, теперь уже почти стыдно было не знать письма, и даже женщины жадно к нему стремились, и сыновья кметов начали ходить в костёльные школы.
Также в самом образовании произошли великие перемены, потому что в нём начали искать того, что бы сразу применялось к жизни; раньше всё было по-латыни, когда мудрыми быть хотели, теперь и в костёле, и в школе свой собственный язык ставили рядом с латинским, глоссы писали польские, с амвона, не стесняясь, говорили на польском, над которым работали значительные люди, коллегиаты, рассказывая, что эта речь была такой хорошей, такой обильной, что не уступала латыни.
Сперва, при Ягайлле ещё, появились переводы священных книг, польские проповеди и благочестивые песни начали переводить с латыни, чтобы то, что в ней скрывалось, доступное для немногих, сделать понятным для всех.
Таким образом, раз зашла о том речь, хоть не к месту, расскажу, как на моём веку появились те первые печатные книги, о которых сперва разошёлся глухой слух; они поначалу казались делом чародейским, почти дьявольским, и многие не хотели верить, чтобы на самом деле можно было писать иначе как пером.
Года теперь уже не помню, но было это раньше, чем Зайнер пробовал напечатать в Кракове первую свою книжечку, когда, идя с каноником и коллегиатом ксендзем Валерием по улице к костёлу Св. Анны, мы встретили на ней ксендза Берёзку.
Он шёл нам навстречу с каким-то пылающим лицом и был чем-то так взволнован, что ксендз Валерий, увидев его, забормотал:
– В самом деле, декан по своей привычке, наверное, вынудил его кубок выпить, а голова у него слабая.
Ксендз Берёзка приблизился и, поздоровавшись с нами, сказал быстро и беспокойно:
– Ксендз Станко только что вернулся из Германии. Ради Бога живого, идите к нему, идите и увидите то чудо, о котором говорят, – книгу, которую человеческая рука не писала, а сделана так, что почти превосходит то, что писала человеческая рука!
На это ксендз Валерий ответил:
– Отец мой, это старые глупости, эти жалкие картинки, отпечатанные досками с надписями, мы видели; они немного стоят; о других же из Германии доносили и немцы хвалятся своими чернокнижкинками, но вблизи эти чудеса выглядят неособенно.
Ксендз Берёзка ответил, улыбаясь:
– Идите посмотрите сами, вложите палец, как неверующий Фома, а потом мне сами скажете, не чудесная ли это вещь.
Сложив обе руки, он поднял их кверху.
– Неописуема милость Божья! Заметьте, наибеднейший костёльчик, малюсенькая школа, маленький человек сможет за небольшие деньги купить слово Божье, радоваться ему, кормиться им, и увеличится слава Творца и Спасителя нашего.
– Amen, – докончил ксендз Валерий с некоторым недоверием.
Ксендз Берёзка ушёл, а я с ксендзем Валерием пошёл к кс. Станке. Мы прибыли к нему, он жил в малой коллегии; только что он вернулся из путешествия и развязывал саквы.
В помещении мы нашли с десяток собравшихся профессоров и бакалавров. На пюпитре лежала раскрытая книга, оправленная в доски, как обычно манускрипты. Все её окружили. На лицах собравшихся рисовалось недоверие, удивление, почти какой-то страх.
Хозяин вышел к порогу навстречу ксендзу Валерию, любезно приветствуя:
– Вам уже, верно, поведали, какое необычное сокровище я привёз. Подойдите и повосхищайтесь этим великим делом, удивительным, и восхвалим Бога, который вдохновил на это дело.
Говоря это, он указал на пюпитр и раскрытую на нём книгу. Ксендз Валерий с любопытством и недоверием подошёл. На первый взгляд не было в той книге ничего, что бы отличало её от обычных рукописей, выполненных рукой опытных скрипторов. Большие литеры даже очевидно были нарисованы и позолочены пером и кистью.
Книга содержала так называемый Catholicon.
Ксендз Валерий перевернул несколько страниц, взглянул, пожал плечами и сказал:
– Ничего особенного не вижу, книга написана так же, как другие, но опытной рукой и однообразно.
– Особенность в том, что она не написана, – живо прервал Станко, – она составлена и напечатана отдельными литерами. Не на досках отрезана! Нет! Опытный немец выдумал резать литеры поединично, складывая их в группу, намазывать чернилами и печатать на бумаге. Таким образом, раз составленную книгу напечатают, сколько захотят. Только большие буквы оставляют пустыми, чтобы дописать их рукой, дабы обманывать людей и выдать это за настоящий манускрипт, за который много платят.
Все слушали с удивлением. Ксендз Валерий начал внимательно рассматривать книгу и качать головой.
Затем присутствующий там ксендз Дубровка высказался:
– Неровно вырезанные доски мы видели раньше. Ими печатали карты для картёжников, образы смерти и святых, кое-где было немного слов.
– Но это совсем иная вещь, – прервал ксендз Станко, – потому что тут каждая литера ставится отдельно, и сегодня она служит для Catholicon, а завтра может для Библии или Ломбарда. В этом весь разум немца. Раньше плохо скопированную рукопись за несколько десятков гривен продавали, а теперь двадцать дают.
Все потеряли дар речи, а прибывший из путешествия Станко продолжал дальше:
– Мне во Франкфурте рассказывали, какой там сказ ходит об этом изобретении. Это произошло по-людски, не разумом, потому что человек, по-видимому, больше обязан случайностям, чем собственной мудрости. Тот немец, который отбивал респиленные доски с образами смерти, одну из них разбил, прижимая, и она развалилась на куски. Ребята взяли их для игры. Сверху стояло большими буквами слово: omen; разбили его и из omen по очереди для забавы складывали nemo, omne, mone и т. п. Пришёл старый отец и посмотрел на эту детскую игру. Ему пришла мысль нарезать отдельные литеры, сперва из дерева, потом пробовал их вылить из свинца или олова, и произошло это чудо.
– В самом деле чудо, – произнёс ксендз Дубровка, – потому что люди давно на это должны были наткнуться. На старых глиняных сосудах гончары литерами выбивали свои имена, на римских монументах отдельно прикрепляли бронзовые литеры. Цицерон говорит о таких рассыпанных знаках. Речь шла только о том, чтобы их кто-нибудь покрасил в чёрный цвет и отпечатал.
– И этого тысячи лет нужно было ждать и только от ребёнка и от случая научиться, – прибавил ксендз Дубровка.
Все с любопытством рассматривали.
– Невероятно! – шептали некоторые, просматривая страницу за страницей.
– Мы должны поверить, когда в руках имеем доказательство, что это сделано, – говорил ксендз Станко. – Это не написанный Catholicon, но отпечатанный, и отпечатали их много, а я привёз два, сравнив которые, легко убедиться, что точь-в-точь подобные друг другу. Это великое дело, новая сила, потому что то, что раньше было доступно для немногих, сейчас разойдётся по свету… во славу Божию, на пользу человеческой душе. Библию уже такую делают.
Стоявший тут же известный всем коллегиат ксендз Мусинский, о котором говорили, что дьявола боялся не меньше, чем самого Бога, а о делах духа тьмы любил рассуждать и везде угадывал дьявольские когти, начал покручивать головой.
– Вы считаете это делом Бога и вдохновением Святого Духа, а я – не знаю. Увидим, не выдумал ли это вечный враг рода человеческого на нашу погибель. Вы говорите, отпечатали Библию. Разве можно её дать в руки простачков, не приготовленных, чтобы понять?
И он повернулся к стоявшему тут же ксендзу Валерию.
– Медик вам лучше расскажет, что нет ничего более здорового на свете, чем хлеб, а хлебом всё-таки можно убить себя. Дайте изголодавшемуся человеку недавно жареного и горячего, пусть поест, тогда распухнет и умрёт. Так и с Библией, со словом Божьим, когда их голодные захотят пожрать.
– Гм, – прервал медленно ксендз Дубровка, – bis sub judice, разве пойдёт это на пользу, когда все люди за книги возьмутся? Не одному они навредят, не один правду изуродует.
– А дьявол этим воспользуется, – ответил ксендз Мусинский, – я считаю его хитрым делом, что научил немца печатать книги, делая их дешёвыми. Есть в этом дьявольский знак. Каждый, кто по дешёвке достанет книги, будет считать себя равным тем, кто посвятил жизнь науке. Не столько правды придёт на свет, сколько баламутств и ошибок. Не все предназначены для науки, её охраняли избранные, теперь она пойдёт для забавы непосвящённым и, упаси Боже, во зло будет использована. Дьявол не спит.
Все молчали, но ксендз Станко качал головой, не желая допустить, чтобы дьявол имел с этим что-то общее.
Тогда возникали разные мнения о тех первых печатных книгах. Одни утверждали, что они никогда не сравнятся красотой со старыми манускриптами, другие – что это трудное мастерство распространиться не сможет и люди вернуться к письму. В коллегиях с некоторой неуверенностью и недоверием принимали новое изобретение, которое одни считали очень важным, другие пренебрегали.
В итоге в Варшаве очень долго никто не отваживался открыть типографию, а тот, кому были нужны книги, велел печатать их за границей и привозил сюда.
Не скоро я дождался того, что и у нас вошли в обиход книги, а когда однажды их начали печатать, потом уже сыпались одни за другими, хоть в школах пользовались рукописями.
Именно в это время у нас при дворе произошли значительные перемены и появился человек, который потом долго, хотя был чужеземцем и не занимал никакой должности, оказывал большое влияние на короля, на дела общественные, особенно на младших королевичей.
Я в то время был ещё при ксендзе Длугоше, при подростающих королевичах, потому что самому старшему, Владеку, было пятнадцать лет, Казимиру – тринадцать и две-двенадцать Ольбрахту.
В архиепископской столице во Львове сидел в то время славный муж, очень умный, высоко ценимый людьми, но во многих пробуждающий страх, потому что был с непомерно острым словом и суровым суждением, не всё так видел, как другие, над очень многими вещами насмехался и издевался, когда другие их прикрывали и щадили. Он ни на что не обращал внимания; что было глупостью, называл глупостью, что было подлостью, именовал делом недостойным.
Я, вроде, уже называл по имени ксендза Грегора из Санока, того бедного сиротку, который добился всё собственными силами. Он славился латынью и красивым стилем, стихами, знакомством со старинной латинской литературой. К тем, которые её любили вместе с ним, он был больше расположен.
Живя во Львове, где ему не хватало академий, коллегий, книг, учённых диспутов и людей, хоть было чем заниматься в своей епархии, говорили, что он очень скучал. Тому, к то с радостью жил Вергилием и Плавтом, ежедневно слушать нестройные русинские речи или костёльную латынь было не по вкусу.
Таким образом, каждый учёный, который прибывал во Львов, был уверен, что его там ждёт самый лучший приём и гостеприимство.
Так случилось и с итальянцем, изгнанником из собственной страны, который, по-видимому, предав папу, осуждённый на изгнание, должен был бежать из Италии и по свету искать себе приюта и хлеба.
Звали его обычно Каллимахом, хотя родовое имя звучало иначе, а в действительности его звали Филиппом из Буонакорси де Тебалдис, и добавлял себе прозвище: Experiens.
Верно то, что происходил он из семьи патрициев, но был беден, а всё его богатство представляли знания, разум и остроумие. Этим его Господь Бог наделил обильно. Обратил ли он их все на славу Его или духовную пользу, о том я, жалкий червяк, судить не могу.
Позже рассказывали мне о нём итальянцы королевского двора, о которых ниже вспомню, что он родился в Тоскане в Сан-Джемиано, но фамилия его была венецианской. Смолоду он показывал большие способности и, получив образование во Флоренции, во времена понтификата Пия II прибыл в Рим.
Там юноше удалось попасть в некую коллегию Абревиаторов, которая составляла папские письма и расходящиеся по свету буллы. Чем там они провинились, когда преемником Пия стал Павел II, трудно узнать, но вина, должно быть, была значительной, потому что папа всех разогнал, сколько их было, и эту коллегию закрыли.
Семьдесят скрипторов, которые в ней работали, остались без куска хлеба, а тот кусок, который потеряли, должно быть, был вкусным, потому что ужасное отчаяние им овладело, так, что они устроили заговор против святого отца. Один из них, некий Бартоломей Платина, разослал письма с жалобами на папу Павла всем европейским монархам, скрипторы точно подняли бунт, чего папа стерпеть не мог.
Итак, он сурово за них взялся, самых виновных заключил в тюрьму, а наш Каллимах сбежал в Венецию, где имел родственников. Там, видно, не чувствуя себя в безопасности, потому что Павел требовал выдать дерзкого слугу, на венецианских барках он отправился на архипелаг, на Кипр, Родос, а потом посетил Египет, Азию, Грецию, Македонию, пока в конце концов не добрался до Венгрии и до Польши.
Хотя весьма умному и этими путешествиями обогощённому, ему, должно быть, не очень везло, потому что эту латинскую мудрость мало кто знал, не многие находили в ней удовольствие.
Видно, ловкий итальянец, прослышав, что король Казимир вёл с папой Павлом спор о назначении епископов, сообразил, что тут будет ему безопасней всего.
Он также умел продавать себя и рекомендовать. Чрезвычайно красивой внешности, подкупающей, ловкий в обхождении, с выразительным и полным жизни лицом, с живым умом, хорошим знанием людей, он умел заполучить тех, в ком нуждался.
Сначала он пожил какое-то время в Покуте у красивой шляхтинки, а когда услышал о Грегории из Санока, направился прямо к нему.
Архиепископу был очень нужен такой товарищ, итальянец как будто упал с неба. Поэтому они взаимно так друг друга полюбили, что для Каллимаха во всей Польше другого такого человека не было, как ксендз Грегор из Санока, а для того Каллимах стал выше учёных всего мира.
Все догадывались об их дружбе, у них были одинаковые мысли, одно суждение и оба с равной любовью занимались литературой и латинской поэзией.
Епископ при нём ожил, но этого светоча скрывать не хотел. Он считал счастьем, что Каллимах попал в Польшу, и не имел покоя, пока не рекомендовал его королю Казимиру.
Длугош занимался воспитанием старших сыновей. Грегор из Санока навязал Каллимаха к младшим, а кроме того, как советник, как посол по заграничным делам он был неоценим.
Становилось препятствием то, что итальянец по-польски знал едва столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду. И никогда говорить так и не научился, но зато хорошо понимал, что говорили. Король же ни итальянского, ни латинского языка не знал.
Однако не так легко было навязать его нашему пану, хотя королева, услышав о нём, очень пожелала с ним познакомиться. Поскольку Длугош также о нём знал, а относился к нему с подозрением по той причине, что он не только раньше выступал против апостольской столицы, но и теперь с радостью на неё роптал и рассказывал о ней что было самого чёрного.
Длугош боялся, как бы он не только не повлиял так на короля, чтобы он ещё больше попрал авторитет церкви, но и молодых королевичей в этих пагубных чувствах не воспитал и не вскормил ими.
Однако столько говорили о Каллимахе, о его чрезмерной учёности, хитрости, ловкости, разуме, красивых обычаях, элегантности, что в конце концов его пожелали хоть увидеть в Кракове.
Тогда итальянец поехал; епископ так его наделил, чтобы он мог выгодно представиться, что у него с лёгкостью получилось. Любая одежда превосходно на нём сидела, всякий костюм он умел так носить, что на нём выглядел иначе, чем на обычных людях. Шёл ли, сидел ли, или стоял, умел это так делать, что притягивал на себя взгляды. Итальянский костюм также в то время по всей Европе считался самым красивым.
Так же, как в обхождении, он был мастером в речи, голосе, а те, что его не понимали, были восхищены одним звуком слова и выражением лица.
Но тут я должен добавить, что очень умный, чего никто отрицать не мог, он совсем иначе проявлял свою мудрость, чем наши важные мужи, профессора и коллигаты. Можно было сказать, что он делал себе игрушку из своих знаний, и что обращал это на собственную славу, напоказ больше, чем на иную пользу людям.
Он также постоянно разглашал то, что таких людей, каким был он, монархи, могущественные паны должны были осыпать золотом, потому что только при их помощи они могли достичь бессмертия, сохраниться до времён потомков.
Он так умел продавать каждый свой вирш, так рекомендовать любой труд, так поднять себя, так ловко выхлопотать награду, что ему и смех, и остроумие и любое словечко оплачивались сторицей.
И людей, в обществе которых он нуждался, так умел пощекотать, польстить им, что они шли как в сети, не зная об этом.
Ксендзу Длугоша враждебность к этому пришельцу особенно показывать не подобало, потому что он мог быть заподозрен в поддержке собственного дела и зависти.
Между тем все итальянцы, кои там были, вставали на сторону Каллимаха, а тех он с первой встречи ослепил величием слова, разумом и мудростью. В то время в Кракове и на дворе находились на разных должностях Арнульф Теклалди, Бенедикт Брогноли, Галоами ди Гучи и несколько других. Уже позже прибыл историк Колленуцио из Пезаро.
Они все, превознося хвалу своего земляка к небесам, почитали за большое счастье для нашего королевства то, что счастливые ветры принесли сюда Каллимаха.
Некогда воспитанница Пия II, королева Елизавета также с большим любопытством ожидала его, надеясь, что этому очень миром отполированному чужеземцу будет поверено воспитание младших сыновей: Александра, Сигизмунда и Фридриха.
Суровость Длугоша, его беспринципное обхождение с королевичами пробуждали в королеве опасения, как бы излишне запуганные юноши не получили чересчур духовное воспитание.
Наш Длугош, действительно, не был ни мягким, ни потакающим, требовал большой дисциплины, но строгим не был и уму королевичей свободно развиваться не препятствовал. Наилучшим свидетельством этому было то, что Владислав и Казимир, согласно врождённой склонности, остались несмелыми и мягкими, Ольбрахт вовсе не дал собой управлять и пошёл иной дорогой.
Тогда именно в том году, когда уже были заключены соглашения о передаче чешского трона и короны самому старшему сыну, Владиславу, на Казимировом дворе появился тот наперёд рекомендованный и предшествуемый славой Каллимах.
По этой причине и надзор ксендза Длугоша над королевичами должен был прекратиться; потому что Казимир заранее объявил, что хочет, чтобы Длугош первое время сопровождал сына в Прагу и там был ему советчиком и опекуном среди чужых людей. Без меры доброму, мягкому, пытающемуся всем угодить Владиславу обязательно был нужен такой руководитель, тем паче, что до сих удерживаемый в послушании и зависимости он вдруг должен был получить полную волю.
Злые люди легко могли бы его завести, куда хотели.
Здесь я также должен замолвить словечко о себе, как я исполнял возложенные на меня обязанности.
На первых порах я был вдалеке от королевичей, молча сопровождая их в прогулках, в играх во дворе и в саду, а в сырое время в комнатах, для этого предназначенных. Иногда я повторял им уроки и решал в них трудные места.
Кроме меня, слуг, товарищей, разных оруженосцев было достаточно для игр и соперничества во время учёбы. Ксендзу Длугошу помогал старший охмистр, Станислав Шидловецкий, муж степенный, доброго сердца, мягкий, но при взгляде Длугоша всегда принимающий суровую физиономию и лицо, хотя был чрезмерно послушный и добродушный.
Он делал вид неумолимого, но уходил и смотрел сквозь пальцы, хотя бы что-то делалось иначе, чем поручил. Старался, чтобы воспитанники его любили, и так оно и было, но его так, как ксендза Длугоша, не боялись и не уважали. Делал грозное выражение лица, угрожал, пыхтел, но никогда не обвинил, не наказал.
Среди шляхетской молодёжи, которая была добавлена королевичам, отличался Ян Конарский, весьма видный парень, который особенно Казимиру пришёлся по сердцу. Они были почти неразлучны, молились, пели вместе, стояли на коленях перед образами, а когда один читал молитвы, другой отвечал. Они так сильно любили друг друга, что друг без дружки почти не могли жить, но так как эта любовь была побуждена набожностью, ксендз Длугош ничего против неё не имел, и Конарский был неотступно при Казимире.
У Владислава был ни один такой приятель, а много, никого, однако, среди них не выделял и не подпускал к излишнему доверию, хотя имел чрезвычайно доброе сердце. Однако он не меньше чувствовал себя королевичем и предназначенным для короны.
Ольбрахт ни к кому не привязывался, но попеременно то был до избытка доверчив, то гордо сторонился людей. Он был очень замкнут в себе, скрытен, и не любил, чтобы его разгадывали.
Все братья друг друга любили, но Ольбрахт меньше жил со старшими братьями и не доверял им; натуру имел совсем другую, более рыцарскую, более гордую, хоть, когда веселился и слишком распускался, себе и им много позволял. Но была беда, когда вдруг вспоминал, кем был; тогда никто не мог к нему приблизиться.
Поначалу и у Шидловецкого, и у Длугоша, и у меня с ним было больше дел. Оставить его без присмотра было нельзя, потому что тогда он совершал то, что ему больше всего запрещали. Дорваться до кувшина с вином, которое только с водой давали королевичам, и то очень умеренно, взобраться на дерево, на забор, забежать в конюшни, к черни, писарям и слугам, и с ними шутить, своевольничать было ему милей всего. Потом учителя наказывали его, над чем он смеялся, строя гримасу.
Учёба давалась ему очень легко, память имел отличную, но желания немного. Только историю, когда ему кто читал, слушал с интересом и, сразу применяя её к себе, рассказывал, каким он будет монархом.
Длугош, который об этом знал, пытался пожурить преждевременную спесь, и повторял ему, что неизвестно, кто из них какую корону получит, потому что их были шестеро, а столько королевств для раздачи найти тяжело.
Правда, они посматривали на Венгрию и Чехию, о чём все знали, но за них, по-видимому, пришлось бы воевать. Самый младший из сыновей, Фридрих, с колыбели был предназначен для духовного сана, но и так их было пятеро, их нужно было наделить наследством, а считая, что в Литву и Корону могли посадить отдельных правителей, как при Ягайлле, ещё корон для королевичей было слишком мало в запасе.
Но Ольбрахт ни на минуту не сомневался, что будет королём.
Всё то, о чём пишу, происходило перед 1471 годом, перед прибытием на двор Каллимаха и выбором королевича Владислава на чешский трон, когда почти в то же время решили Казимира с войском отправить в Венгрию, где обещали ему, как Варненчику, желанный приём, но он больше, чем тот, в нём разочаровался.
Но об этом ниже.
Итак, надзор Длугоша должен был закончиться, а с ним около королевичей всё измениться. Итальянец прибыл, как мы видим, в самую пору, как если бы на это рассчитывал.
В течение того времени, когда я был при молодых панах, что продолжалось несколько добрых лет, они со мной подружились, я – с ними. Любили меня достаточно, особенную, однако, слабость возымел ко мне Ольбрахт, и с ним я был ближе, чем с другими.
Как до этого дошло, я не знаю. Я старался его защищать, когда он что-нибудь натворил, я не сторонился доверительной беседы с ним, оказывал маленькие услуги, и приобрёл доверие.
Не могу, однако, сказать, чтобы он когда-нибудь мне полностью что-нибудь доверил. Ещё будучи подростком, он уже такую сохранял осторожность, что не перед кем всех своих мыслей не открывал. Расспрашивал других, сам себя не выдавал никогда.
Впрочем, он был весёлый, любил развлекаться и боязливых братьев, когда мог, тянул за собой. Удавалось ему это с послушным Владиславом, Казимир ему сопротивлялся.
Когда мы прибыли в начале года в Краков, королевичи уже знали, что Владислав будет чешским королём. Длу-гош постоянно говорил ему об обязанностях монарха в отношении церкви и веры, потому что особенно в Чехии боялся снисходительности к ереси.
Все королевские сыновья были воспитаны в набожности и религиозных практиках, но они по-разному к ним подходили. Ольбрахт меньше других показывал религиозного духа. Для своего возраста все королевичи были зрелые и умом и знаниями старше, чем бывают обычные дети в эти годы. Порой в них невольно говорила молодость каким-то своеволием, смехом, порывом, но в целом они были серьёзны, как старые люди, и обращали на себя внимания.
Короля ещё в Кракове не было. В то время умер Симеон Олелкович, Киевский губернатор, прислав королю на память коня и свой боевой лук.
На его место нужно было назначить преемника, и Казимир хотел послать туда Гастольда из Литвы, который долго сопротивлялся, из-за веры не желая ехать на Русь, но в конце концов должен был быть послушен королю.
Сколько бы раз мы не возвращались на Вевель и не находили там королеву Елизавету, для матери, отлучённой от детей, для младших братьев и сестёр, для всей семьи были это дни такой радости, что у смотрящих на них чужаков из глаз капали слёзы. Я, который никогда семьи не имел и не испытал этого удовольствия, чуть ли не с завистью смотрел на эту картину, когда прибывающих приветствовали с криками и объятиями, когда братья и сёстры здоровались, друг другу взаимно рассказывая, что произошло в их отсутствие.
Королева следила за тем, чтобы и при семейных забавах некоторый авторитет королевского достоинства был сохранён, но молодёжь удержать трудно. Тогда в комнатах раздавался смех.
Кружок королевских детей был многочисленным, потому что и принцесс было почти столько же, сколько мальчиков; а были подростки всякого возраста, начиная с Влад-ка, которому было пятнадцать лет, до трёхлетнего Фридриха, при котором ещё ходила нянька.
Было кому за стол сесть, когда ели одни с королём и королевой, а уставший пан мог порадоваться лицезрением этого расцветающего потомства. Почти все дети отличались красотой лица и по-настоящему каким-то королевским величием.
Из младших Александр, которому уже было одиннадцать лет, такой же мягкий, как Владислав, с детства был послушный, молчаливым и не показывал живости ума, как другие. Сигизмунд и Фридрих оба были ещё детьми.
Король в это время, если и не много изменился, то не повеселел и не показывал себя более свободным. Забот всегда имел много, неприятелей – достаточно, постоянные трудности в сеймах за каждый грош, который нужно было выпросить.






