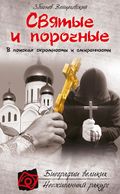Збигнев Войцеховский
Раневская, которая плюнула в вечность
Фаина Раневская и отец
В отношении отца мне не хочется употреблять слово «имела». Думаю, вы сами улавливаете его не очень приятное звучание в данном случае. Заменим это слово на другое: «сделала». Хорошее слово, обиходное. Так отзываются о многом, но в самом широком понимании словосочетание «сделать кого-то» означает «одержать верх», «победить», «выиграть», «уговорить», «переубедить», «заставить сделать по-своему».
И вот юная Фаина Раневская сделала отца.
Начнем по порядку. После первого урока, полученного от юноши в парке, прошло уже целых три года. Это немалое время для усваивания основ тех порядков, которые царят в обществе, вокруг тебя. Тот горький опыт наложил свой отпечаток на юную Фаину. Она стала скрытной, независимой в суждениях, отстраненной от основной массы. Но в то же время у нее появились друзья, близкие ей по духу.
Она нашла их в театральной школе, где продолжала заниматься с все возрастающим интересом. Театр захватил ее. Иначе и быть не могло – тонкая, артистическая натура Фаины Раневской искала выхода и нашла его на сцене. Учиться проживать чужие жизни стало ее потребностью, но не в том смысле, чтобы прятаться от себя, а в том, чтобы уметь уловить всю глубину чувств своего персонажа. Но главное в том, чтобы донести до зрителя эти чужие для тебя чувства.
Фаину Раневскую театр пленил. Ее околдовало само творчество. Она со всей страстью начала читать все, что тогда имело значение для творческих людей. Она открывала для себя новый, совершенно невероятный мир, в котором не было мещанского быта, мелочных дрязг. Сам человек становился здесь источником света и центром Вселенной. Решение связать всю свою судьбу с театром было таким же логичным, как есть борщ с хлебом.
И тут на горизонте открывающихся перспектив возник отец. В принципе, не он сам, а олицетворение в нем уклада жизни зажиточного еврея. Почитание родителей детьми было столпом и основой этого древнего порядка. Понятие «почитание» в первую очередь трактовалось как «послушание». Беспрекословное. Всенепременное. Безоговорочное.
В этом укладе судьбы дочерей зажиточных родителей определялись очень четко. Они должны были непременно выйти замуж за единоплеменника, равного по состоянию и общественному значению, а лучше – если выше, нарожать детей и блюсти семейный очаг.
Помянутый уклад жизни строился с учетом перечня тех занятий, которыми могла увлечься Фаина Раневская, дочь богатого человека, тем паче иудея. Так вот, посещение девочками театральной школы за деньги, которые зажиточные люди платили учителям и держателю заведения, было естественным и понятным. Детки развиваются, играют, радуют своих родителей веселыми постановками. Это очень даже хорошо.
Гирша Фельдман с большим удовольствием посещал театральную школу, где смотрел на игру своей дочери в разных спектаклях. Он радовался еще и потому, что те немалые суммы, которые он жертвовал на школу, не считая оплаты за занятия дочери, имели такую хорошую отдачу. Его голова по-настоящему отдыхала от повседневных экономических забот.
В общем и целом в семье Гирши Фельдмана царила некая идиллия, пока Фаине не исполнилось восемнадцать лет. Для нее пришло время как-то посерьезнее определиться со своим будущем. Отец девушки уже осторожно подыскивал ей жениха, то и дело оглядываясь на Петербург и Москву.
Ветер уже начал приносить оттуда дым будущих пожарищ. Увы, всей ровно текущей и спокойной жизни Таганрога, как и всей России, приходил конец. Началась Первая мировая война, приближение революции становилось почти очевидным.
Гирша Фельдман имел многочисленные связи среди своих единоверцев. Он уже знал о еврейских погромах, происходящих в России, не сомневался в том, что катящийся вал революции не остановит ничто. Поэтому для него мысли о будущей эмиграции, устройстве на новом месте были совсем не праздными.
Отцу было крайне важно определить судьбу и двух своих дочерей. Маленькая империя, созданная им, давала возможность обеспечить безбедное существование не только детям, но и внукам. Главное – удачно выдать замуж дочерей, чтобы зятья оказались толковыми помощниками.
Восемнадцатилетняя Фаина Фельдман расцвела ровно настолько, чтобы в спешном порядке задуматься о семье. В те времена этот возраст для девушки был уже едва ли не критическим. Гирша решил напрямую поговорить с дочерью. Он всерьез рассчитывал, что раз она не проявляет особенного интереса к мужчинам, то, стало быть, согласится на кандидатуру, предложенную им.
Отец пришел к дочери, начал разговор и был сражен ее заявлением. Фаина решила ехать в Москву, учиться в театральной школе.
Дочь богатого еврея станет играть в театре? Смешить публику? Кривляться со сцены? Кокетничать? За это ей будут платить жалкие гроши?
Ни за что!
Гирша Фельдман рассчитывал на послушание дочери, но оказалось, что это правило в глазах Фаины перестало действовать. Она беспрекословно слушалась папеньку аж восемнадцать лет. Но девочка выросла. Фаина решила, что отныне она сама будет отвечать за свою судьбу.
Отец кричал и угрожал, ругался и упрашивал, уговаривал, убеждал, пугал. Ничего не помогало. В какой-то момент он применил запрещенное средство – сказал, что его дочь не годится в артистки, потому что элементарно некрасива. Но это не подействовало. Тогда Гирша Фельдман понял, что дочь ему не сломать, и отказал ей в содержании.
Фаина Фельдман уехала в Москву.
С одной стороны, может показаться, что отец не остался побежденным. Его решение не давать дочери денег было жестоким, но выглядело как поступок победителя. Хотя должен вам сказать, что без денег в те годы Фаина Раневская не осталась. Мать регулярно посылала ей небольшие суммы. На фоне фактов, открывшихся спустя многие десятилетия, становится ясно, что делала она это с разрешения мужа.
Театральная жизнь в Москве, а потом в Крыму так затянула Фаину Раневскую, что о воссоединении с семьей, которая уехала в эмиграцию в 1917 году, не могло быть и речи. Может показаться, что Фаина была забыта отцом и матерью, но это не так. Гирша, как оказалось, постоянно следил за ее успехами из эмиграции. Радовался. Был счастлив, когда к его дочери пришло настоящее признание, пусть уже и в чужой для него стране.
Таким вот образом и получилось, что первым мужчиной, над которым Раневская одержала верх, был ее собственный отец. Это укрепило веру Фаины в то, что она сможет, если захочет, добиться собственной независимости в этом мире, летящем в тартарары.
Первое поражение от мужчины
Самое первое свидание забылось, обида зажила. Прошло почти десять лет. То детское чувство первой влюбленности теперь, из дали годов, казалось Фаине смешным, камешки, летящие в спину, – почти безобидными. Иногда она вспоминала о той девочке, дурочке, в общем-то.
Поэтому Фаина Раневская опять влюбилась. В мужчину. В актера театра. Не в простого, а в самого главного.
Вы как хотите, а я ее прощаю, пусть она и потеряла голову. Потому что Фаина Раневская в первую очередь любила театр, олицетворением которого для нее стал именно этот человек. Она буквально обожествляла его, высокого, сильного, а главное – уверенного в себе.
А дело было так.
В Москве карьера Фаины Раневской сложилась не самым лучшим образом. Она играла в летнем театре, зимой он закрылся. Мест не было. На театральной бирже Фаине предложили работать в театре в Крыму. Кстати, именно там определили ее первое амплуа как «гранд-кокет». Она поехала туда.
В одном из спектаклей у нее была роль заднего плана. Несложная, безмолвная. Она, влюбленная в главного героя, должна была появиться на сцене, а потом исчезнуть. И все.
Для Фаины Раневской сыграть эту роль было и сложно, и просто. Сложно потому, что перед ней стояла задача показать зрителю искреннюю влюбленность и сделать это без слов, за несколько коротких минут. Просто потому, что к этому времени Фаина Раневская буквально боготворила главного актера театра. Она была искренне влюблена в него.
Стоит вот что еще сказать. Театры в Крыму, многочисленные, самые разные, не отличались высоким профессионализмом. Режиссеры преследовали одну-единственную цель: чтобы отдыхающей публике было не скучно, а весело. Поэтому они ставили простые спектакли в основном любовной тематики, безо всяких глубоких измышлений.
Свою роль Фаина Раневская могла сыграть, элементарно выйдя и встав где-то в уголке на заднем плане. Кто-то из персонажей пьесы сказал, что есть еще одна дурочка, влюбленная в героя. Вот выйди и покажись.
Но это была Раневская. Она уже с первых ролей не давала себе никаких скидок даже в таких пустяковых постановках. Надо сыграть так, чтобы зритель увидел и поверил.
Растерянная от сверхзадачи, поставленной самой себе, она решилась подойти к главному актеру, своей мечте, и спросить, как же ей играть.
– Милочка, ты меня там любишь? – небрежно поинтересовался актер. – Прекрасно, тогда плачь!
Фаина Раневская плакала. Она вышла и безмолвно – ведь по сценарию тут нет никаких рыданий! – глотала слезы, буквально пожирая глазами свою любовь.
Черт возьми, но зрители заметили эту плачущую девушку, поняли ее любовь! Она ощутила волну сочувствия, идущую из зала.
Спектакль закончился, а она продолжала плакать. Уже почти вслух, совершенно по-настоящему.
– Душечка, что с тобой? – решил снизойти да нее главный актер. – Почему ты плачешь?
– Потому что я люблю вас, – ответила зареванная Фаина Раневская.
Актер на минуту задумался и продолжил:
– Вы снимаете квартиру неподалеку? Одна? – Он услышал утвердительный ответ и тут же продолжил: – Тогда, милочка, ждите меня сегодня в семь часов! – Актер совсем по-отечески тронул голову девушки.
Фаина Раневская летела на свою съемную квартирку не просто окрыленная. Она была безумно счастлива и озабочена. К ней придет такой мужчина, а что у нее есть? На ней самой?.. Боже, разве же в таком белье можно принять мужчину? В этом платье?
Для ясности следует заметить, что все свои театральные костюмы актеры типа Раневской, то есть новички, пока не вписавшиеся в основной костяк театра, должны были покупать за собственные деньги. Раньше, в Москве, на средства, присланные матерью, Фаина купила несколько красивых платьев. Теперь одно из них она несла продавать или обменять. У нее не было белья, достойного такого мужчины! Это же ужас!
За полчаса до прихода актера Фаина, вся избегавшаяся, села и стала терпеливо ожидать. Квартира была выдраена набело, все сияло чистотой и свежестью. Лампа под новым темным абажуром светила таинственно и располагала к единению душ и сердец. Два только что купленных бокала, бутылка вина на столе, еще две – в небольшом кухонном шкафчике.
Фаина ждала. Ее сердце стучало все сильнее.
Ровно семь.
Никто не постучал в дверь. Прошло пять минут, потом десять, четверть часа. Актера не было. Фаина осторожно выглянула из квартиры – улица была пустынной, неживой. Никто к ней не шел.
В растерянности она вошла в дом, зачем-то стала опять протирать бокалы, переставлять с места на место бутылку красного виноградного вина. Потом Фаина села и смотрела на тени от абажура, которые пестрели на сером низком потолке.
Она услышала уверенные громкие шаги. Тут же кто-то затопал возле двери, постучал в нее. Девушка бросилась открывать.
Ее пьяное театральное божество стояло, чуть покачиваясь, держа в одной руке бутылку дорогущего коньяка. Актер улыбался, ничуть не смущаясь.
– Ты позволишь, душечка? Ты же обещала, так?
– Да-да, конечно, – пролепетала Фаина, отступая в комнату.
Актер уверенно, по-хозяйски шагнул вовнутрь, огляделся по сторонам, удовлетворенно хмыкнул и спросил:
– Клопов в кровати нет?
– Нет, – опешив, еле выдавила из себя Фаина.
– Это хорошо, замечательно. – Актер поставил бутылку на стол и крикнул в дверь, все еще открытую: – Люсик, солнышко, заходи!
В комнату зашла полноватая женщина среднего роста. В этой особе было что-то вызывающее: во взгляде, в улыбке, в походке, в одежде. Она точно так же, как и актер, окинула оценивающим взглядом комнату, особенно кровать, где Фаина два часа назад постелила свежее белье, и удовлетворенно хмыкнула.
Актер улыбнулся, подытоживая эти смотрины, встал вплотную к Фаине, взялся за пуговку платья на груди и стал говорить:
– Милая, ты же меня любишь, да? Я тебя прошу оказать мне совсем маленькую услугу: сходить погулять. Всего два часика. Нисколько не вру – ровно два часика. А, деточка? Иди, погуляй…
Фаина плохо соображала, что делала. От осознания того, что произошло нечто страшное, очень мерзкое и гадкое, в ней все горело. Она набросила на плечи пальто, выскочила на улицу, уже почерневшую. Хорошо, что начался дождь. Если бы на улице было тихо и уютно, она не вынесла бы контраста умиротворенной природы и чувств, бушевавших в груди.
Фаина шла без цели, не задумываясь, шла долго, поворачивая раз за разом в самые темные улочки. Она тихо плакала, кусала уже опухшие губы.
Девушка устала, промокла до нитки, озябла до полного бесчувствия пальцев ног и рук. Только за полночь она вернулась в свою съемную квартирку.
Горела лампа под темным абажуром. Измятые простыни на растерзанной кровати откровенно рассказывали о похотливой страсти, недавно бушевавшей здесь. На столе бутылки с недопитым коньяком и вином, один бокал на столе, второй, разбитый, – на полу.
Фаина с остервенением мыла уцелевший бокал, потом яростно сорвала с себя мокрое платье и новое белье, переоделась в сухое, присела к столу. Она налила полный бокал вина, выпила залпом. Закурила. Девушка почувствовала, как легкое тепло внутри ее стало осторожно входить в руки и ноги, разливаться дальше по телу.
Она сидела, пила и курила до глубокой ночи.
Через два дня ее недавнее божество, главный актер театра снова подошел к ней, улучив минуту уединенности.
– Душечка, ты меня по-прежнему любишь. Я это чувствую. Сегодня я хочу прийти в гости именно к тебе и…
– Милый!.. – вдруг нежно перебила его Фаина. – Уже занято. Ко мне сегодня приходят два грузчика.
– Как это грузчики?.. – опешил актер. – Вы – такая замечательная актриса, и вдруг какие-то грузчики?
– Ну и что? – Фаина улыбнулась. – От них пахнет рыбой, не так ли? Но это гораздо лучше, чем запах псины.
Фаина Раневская, юнкер и гусар
Актеры и артисты, да и вообще все люди искусства – народ очень даже раскрепощенный в плане того, что называется интимными связями. Мужчины творческих профессий через одного утверждают, что им нужно обязательно менять своих женщин, потому что в этом – питание их художественного таланта.
Весьма раскрепощены и женщины. Просто в этой среде такие нормы, как верность, невинность до замужества считаются весьма условными, существующими в каком-то ином измерении – например, зрительском. Или данного спектакля.
Поэтому не нужно думать, что Фаина Раневская оказалась самой что ни на есть рьяной сторонницей соблюдения заповедей непорочности и пуританства. В плане отношений с противоположным полом она была самой обычной женщиной своего круга и данного времени.
Тогда в России уже полыхала революция. Крым еще пребывал в каком-то невероятном состоянии ожидания апокалипсиса. Веселье и смерть были рядом, в многочисленных театрах шли разудалые пьесы, гремела музыка водевилей. Голод одних и расточительство других перемешались и сосуществовали, как библейские волк и ягненок. Умирала старая страна…
Артисты, несмотря на напряженные выступления, по большей части нищенствовали. Вырученных денег едва хватало на самый минимум. Голод был так же естественен, как воздух за окном, пропахший трупным разложением. Бравые гусары, студенты, юнкера отдавались безудержному веселью, предчувствуя скорую гибель всего своего мира и, возможно, их самих.
Однажды Фаина Раневская приняла у себя совсем еще мальчишку. Он ждал ее после спектакля почти два часа, очарованный ею на сцене, робея и краснея, подошел и попросил о встрече в каком-либо ресторанчике. Раневская повела его домой. Он был девственником.
Их вечер был наполнен его юношеским нежным чувством и тактом Раневской. Она понимала, что этого мальчишку в новом обмундировании могут убить через несколько дней. Уходя, юнкер достал из кармана мундира небольшой платочек, в котором были завернуты золотые сережки. Материны, объяснил он. Она умерла полгода назад от чахотки. Фаина Раневская не взяла это золото, как ни уговаривал ее юнкер.
Послезавтра она шла в театр, переступая через новые трупы, которые появились на улицах города – ночью опять была стрельба. Актриса издали опознала того мальчишку по светлой улыбке на безусом лице. Он был полностью раздет, тело было пронзено несколькими ударами штыка.
Раневская в полузабытьи прошла мимо театра, и ей пришлось возвращаться. Она играла в этот день в каком-то пустом спектакле, истерично хохотала, потом плакала в тесной каморке гримерной.
К ней постучали – принесли какой-то веник наполовину увядших цветов. Затем просунулась маслено улыбающаяся рожа бравого гусара.
Этот откормленный вояка знал, что все в порядке вещей. Актрисы ждали таких приглашений, где был гарантирован хороший ужин, возможность хоть как-то отвлечься от ужасов приближающейся войны и деньги.
Гусар был щедрым, веселым, много пил и не пьянел. Его щедрость была понятна – к чему все эти ценности, если мир рушится? Фаина Раневская кривилась в душе от его неприкрытого хамства, тупого лошадиного юмора. Но смеялась и пила, закусывала, позволяла потным большим ладоням гусара лапать ее бедра.
Когда они пришли в ее квартирку, гусар, не медля попусту, тут же принялся бесцеремонно сдирать с себя одежду Раневская не стала разыгрывать из себя недотрогу, быстро разделась и легла.
Когда гусар наконец справился со своими завязками на кальсонах и повернулся к ней, она не смогла сдержать своего удивления:
– Какой он у вас огромный!..
– Овсом кормлю! – заржал довольный гусар.
По тому, с какой горделивостью он это произнес, Фаина Раневская поняла, что громадный детородный орган этого гусара – настоящая легенда в его полку.
Но любовником он оказался совсем никудышным. Страхи Раневской были излишними. Уже через две коротких минуты гусар отвалился к стене и захрапел. Спать самой Раневской пришлось на небольшой кушетке – храпящий гусар буквально взрывал мозг своими руладами.
Утром гусар попил чаю, хлопнул Раневскую по попке и отправился восвояси. Фаина стерпела. Но вечером ее ожидал не самый лучший сюрприз. Хозяйка театра выплатила небольшое жалованье, что подняло настроение труппы. Артисты решили все вместе отужинать в ресторане. Когда расселись за столом, Фаина Раневская вдруг услышала удивленный радостный возглас позади себя, а потом бесцеремонные пальцы ухватили ее за локоть.
– А вот и моя кобылка! – На нее таращил осоловелые глаза вчерашний гусар.
Потом он повернулся к своим друзьям за столом и громко заявил:
– Эту ночь мой жеребчик проведет в уютном стойле!
Раневская обернулась, лучезарно улыбнулась и ласково предложила:
– Милый, только не забудь накормить своего мерина чем-нибудь еще, кроме овса, чтобы он не издыхал во время скачек.
Дикий хохот пьяных гусаров взорвал ресторанчик.
Через несколько минут на стол артистов передали бутылку настоящего коктебельского коньяка. От кого она была – осталось неизвестным.
Раневская и комиссар
Крым был последним островком старой России. Но волна Гражданской войны, дышащая смертью и водочным перегаром, докатилась и сюда. Здесь, в Крыму, нашли последнее прибежище не только офицеры и юнкера, но и артисты, театры и цирки-шапито. Крым агонизировал, задыхался в дыму пожарищ, отчаянно веселился. Все праздновали неизбежную смерть старого мира, а очень многие – еще и свою собственную.
Они умирали. Вечером пели и танцевали в кабаках до полного изнеможения, за фамильные драгоценности покупали последнюю ночь у красавиц, а утром шли умирать. И пели при этом…
Власть в Крыму принадлежала непонятно кому. Она, как настоящая проститутка, отдавалась сегодня одному, завтра – другому, потом уходила к третьему, самому сильному.
Фаина Раневская очень мало рассказывала о том времени, когда Гражданская война дошла до Крыма. Не могла. Всхлипывала от ужаса, давно уже пережитого, взгляд ее застывал, и она вся замирала, не в силах говорить дальше. Там, в Крыму, на берегу моря, у пирса актриса однажды пережила страшнейший шок.
Уже вошли в Крым красные, были разбиты последние части белых. Комиссары организовывали охоту, выискивали среди населения всех, кто хоть каким-то образом походил на их врага. А таковыми являлись все, кто не носил юбку, не был стариком или ребенком.
Однажды Фаина Раневская, тогда совсем еще юная, вышла к морю, чтобы хоть как-то отвлечься от смерти и крови. Она увидела, как на длинный бетонный пирс красные гнали мужчин, полураздетых, в одном исподнем. Была осень, с моря дул холодный пронизывающий ветер, на пирс залетали соленые брызги.
– Не стреляйт! Мы – большевик! Мы – коммунист! – кричали на ломаном русском люди, гонимые штыками.
Но их вели дальше, дальше…
А потом раздался залп. После него зачастили друг перед другом одиночные выстрелы. Тела падали в море, а оно в ответ бросало на пирс кровавые брызги.
Фаина Раневская стояла совсем рядом, близко. Ей казалось, что она слышала, как звонко ударяли пули в голые груди мужчин.
Волны качали трупы, били их о железобетон. Вода стала красной. Она лезла на желто-грязный песок, прямо к ногам Фаины Раневской, онемевшей от ужаса.
А ей завтра нужно было идти в театр. Ведь пьяная матросня требовала каждый вечер спектаклей. Они были нужны новой, красной власти.
И их ставили.
В завтрашнем спектакле у Раневской была роль, где ей требовалось много ходить по сцене, приближаться к самой рампе. Не смогла. Нет, она отыграла какой-то пустой водевиль, но близко к краю сцены подойти не сумела. Перед ней возникал пирс. Внизу бились кровавые волны.
Наступил голод, куда более страшный, чем тот, что был до этого. Новая большевистская власть тут же прибрала к рукам все театры, как большие, так и маленькие, но платить артистам жалованье никто не желал. Сборы от зрителей были мизерными – победители ведь не платят. Наступил момент, когда ни у кого в труппе не осталось еды. Никакой.
Бывшая графиня, сейчас актриса их труппы, все это время поддерживала других последними кусками сахара. Теперь она упала в обморок во время репетиции.
Тогда Фаина Раневская пошла на прием к самому главному комиссару, который был тогда в городе. Было ли ей страшно?
Поставьте себя на ее место, и вы все поймете. Она была свидетелем того, как этот самый комиссар совсем недавно отдавал приказ о расстреле невиновных людей на том пирсе. Фаина знала, что по малейшему подозрению в нелояльности к новой власти ее могли расстрелять как пособника мирового империализма без суда и следствия. Да что там какие-то подозрения! Она шла туда, где всякая мораль и нравственность отныне были заменены красными лозунгами, настолько страшными, что ей не хотелось даже вникать в их суть, чтобы сохранить для себя хоть какое-то равновесие мира, окружающего ее.
Могла Раневская не вернуться из того особняка, который нынче стал средоточием красной власти? Еще как! Любой матрос уже на подходе к этому особняку был верховным судьей, мнил себя богом.
Она боялась? Да, Фаина Раневская всегда вспоминала этот поход с содроганием. Любая нормальная женщина, конечно же, должна бояться невоспитанного человека с оружием, опьяненного властью и вседозволенностью. Но ее просила вся труппа. На нее смотрели грустные глаза графини, той самой, которая знала наизусть всего «Евгения Онегина», пришла в театр, потому что хотела играть. Сейчас, теряя сознание от голода, эта женщина не дала никому подумать о том, что сожалеет о своем решении. Она отказалась от жизни графини, выбрала жизнь актрисы, театр.
Фаина Раневская сжалась от омерзения. Она вздрагивала от почти физически липких взглядов красноармейцев. Актриса пошла к комиссару.
– Товарищ комиссар, к вам тут артистка… молодая. – Часовой, стоявший у двери, приоткрыл ее и говорил вглубь. – Нет, на контру не похожа. Конечно, мы свое дело знаем. – Он прикрыл дверь, повернулся к Раневской, замершей перед ним, поудобнее забросил винтовку с длинным штыком на плечо. – Ну-ка, барышня, руки-то подними, пощупаю тебя. – Красноармеец гоготнул и добавил миролюбивее: – А то тут одна такая револьвер несла, стрельнуть хотела.
Раневская никак не ожидала, что ее будут обыскивать. Первые прикосновения грязных рук с траурными каемками под обгрызенными ногтями она восприняла как ползанье крыс по своему телу. Она не смогла унять дрожь. Красноармеец вроде даже как-то виновато облапил ее бока, примял груди, а вот ниже пояса не тронул.
Он вдруг встретился взглядом с Раневской, чуток отшатнулся и заявил:
– Да чего смотришь так! Служба у меня такая. Больно надо мне!.. Иди! – Боец стукнул в дверь, открыл ее перед Раневской.
Комиссар стоял напротив освещенного окна. Раневская в первый момент увидела черный силуэт – и больше ничего. Темный и страшный. Замерший, прямо как коршун перед взлетом.
– Слушаю! У вас пять минут, меня ждут, – сказал он резко, но не грубо.
Этот голос будто включил в Фаине Раневской все сразу: свет, цвет, звук, понимание.
Она увидела этого самого главного в их городе комиссара: ниже среднего роста, высокий лоб, волосы зачесаны назад, чем-то смазаны. Серое лицо.
Фаина взглянула ему глаза, и ей стало ясно: этот ничего не поймет. Для него главное – революция. Он не разумеет ничего в жизни, только приказы командиров и марксистко-ленинское учение. Причем так, как его воспринимали тогда все: «до основанья, а затем…» Пока не разрушили до основанья все старое, нечего было и думать о будущем. Об этом станут размышлять другие. Дело комиссара – революция.
Фаина Раневская, еще совсем юная, тогда поняла это. Мгновенно. Она уразумела, что такого человека ничем не пронять – ни просьбами, ни уговорами, ни обещаниями. Он не примет никаких доказательств, ему глубоко безразлично, что там с актерами театра, вообще все вокруг, кроме революции, которую он делает, и войны, которую он сейчас ведет. Потом, когда великие дела закончатся полной победой, комиссар будет беспокоиться о театре.
И Раневская… заплакала.
– Нам… театру нечего есть. Актеры падают в обморок. – Ее слова кое-как пробивались сквозь всхлипывания.
Она вдруг решила для себя, что этого человека в кожанке, здесь, в этом кабинете, один на один может пронять только плач. Искренний, непритворный. Потому что такие мужчины не выносят женских слез. Где-то там, на виду у всех, такой человек, может, и будет молча смотреть на расстрел женщин и детей. Он решит для себя, что они – враги, и выключит таким вот способом свои чувства.
Но один на один в кабинете они не выдерживают. Женские чистые слезы выворачивают их сознание, взрывают мозг, прожигают революционную шелуху и горячими уколами будят в них человеческое. А им от этого становится страшно. Поэтому они так не любят женских слез и боятся их.
Раневская плакала.
Комиссар не стал ее утешать. Он не умел этого делать. Но приказать своему часовому вывести посетительницу из кабинета было бы признанием своей слабости – с девкой не сладил. Комиссар кривился, терпел, потом быстро сел за стол и на клочке бумаги написал несколько слов.
– Хватит плакать. Вот. Найдете товарища Мазурова. – Он протянул Фаине серый листочек.
Раневская не верила своим глазам. Она не смогла понять, что написал комиссар – буквы растекались из-за мокрых глаз, – но уже чувствовала, что не уйдет без ничего.
Так и вышло. Более того, только она спросила у часового, где ей искать товарища Мазурова, как тот мгновенно изменил свое отношение к ней, словно вдруг Раневская надела шинель и буденовку с синей пятиконечной звездой.
Он крикнул своему сослуживцу:
– Быстро отведи к товарищу Мазурову. Товарищ комиссар приказали!
Фаину Раневскую куда-то вели долгими коридорами. Наконец они пришли в огромный то ли сарай, то ли склад с бетонным полом. Пол был скользкий от крови и чего-то еще. Пахло невозможно – тут свежевали коней.
Раневская почти ничего не соображала, ее тошнило до головокружения. Мужчины, измазанные в крови, бросали чего-то в какой-то мешок.
– Хватит, не донесет.
– Не она понесет. Я прикажу – ты потащишь!..
– Я сама справлюсь, – проговорила из последних сил Раневская, мечтающая только об одном: быстрее выбраться на свежий воздух.
Мешок оказался совсем не тяжелым. В нем что-то противно хлюпало, спине было мокро.
– Стой, барышня, дай мешок. – Красноармеец забрал ношу, закинул себе на плечо. – Веди, ведь все одно не донесешь – отберут.
Они шли быстро, но слишком уж долго, как казалось Фаине. Ей очень хотелось дойти поскорее.
Конечно, в мешке было не мясо, ливер: желудок, печень, легкие. Но какой же замечательный бульон у них был на ужин, как упивались они этими минутами!
Старая графиня пила из чашки маленькими глоточками и расспрашивала Раневскую, как та плакала у комиссара.
– Вы – жопа, душечка, – заявила она. – Если бы вы плакали не как девица, а как актриса, вам бы дали мешок настоящей грудинки.
– Вы еще скажите спасибо, что плакали оба моих глаза, – отвечала Фаина Раневская. – Если бы плакал один, я бы принесла пару конячьих членов: вам и мне по одному.