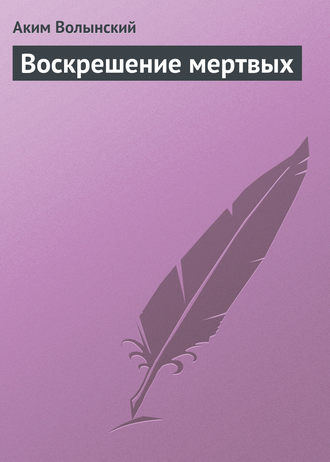
Аким Волынский
Воскрешение мертвых
Фантазия Федорова разыгрывается. «Картину мирного разоружения или умиротворения нужно представить на наружных стенах музея, оставив стены Кремля для чего-либо еще более высокого. На стенах Кремля должна быть представлена замена военного оружия другим оружием, избавляющим род человеческий от бед, производимых слепою силою, чтобы оно было видимо всеми, воспитывало бы для мира народ, призванный под видом воинской повинности к разрешению мирового вопроса». Мечты свои Федоров заключает тезисом: «Ни царь для народа, ни народ для царя, а царь вместе с народом становится исполнителем воли Бога в деле Божьем». В другом месте, восставая на клеветников русского народа, Федоров разражается бурной филиппикой. Русский народ – это великий народ. Он принял крещение в общей купели. Он способен к величайшему единодушию в мире. Он созидает храмы в один день. Все у него «сообща, помочами и толоками». Такой народ и спасение личное полагает в спасении целого мира. «Он и лечиться, как и креститься, не хочет в одиночку». Создав призрачный образ царя-миротворца, Федоров создает и призрачное представление о бесконечно единодушном народе, призванном к насаждению и утверждению всемирной солидарности. А между тем за вычетом переживаемых дней и последних годов нельзя назвать эпоху в истории России, когда народ этот занимался делом гармонизации мира на общечеловеческих началах. В самой России – всегда струи, течения и веяния, всегда раскол и полемика, от побоищ на новгородском мосту до дней Аракчеева и Аскоченского. Вечная грызня и поедание друг друга. В канцеляриях всеобщее подсиживание. Около каждого местного помпадура – интригующая придворная шваль. В клубах единодушие держится еще у карт, когда оно и там не прерывается криками и драками. В общественных собраниях злорадное прокатывание на вороных лицемерно предложенных кандидатов к баллотировке. Почти каждая партия уже в стадии рождения распылена на фракции. В литературе и журналистике травля и взаимные преследования доходят до неприличия. Для больших империалистических авантюр всю эту разноголосицу мог объединять только железный кулак деспотизма. Индивидуализм русского народа всегда пребывал в звериной стадии и был бесконечно далек от мечтательной гармонии и идеализированной солидарности, о которой с таким потрясающим восхищением говорит Федоров.
Но может быть, этот народ, раздираясь внутри, вносил в окрестные страны что-нибудь человечное и высокое? В смысле политическом – ничуть. Он только порабощал своей территории соседние слабые государства, деля их с хищными королями и императорами. Русифицировать их он не мог, будучи ниже их по культуре, и если некоторые могли думать, что народу русскому удалась цивилизация киргизов, то и это допущение следует принять лишь с очень большими оговорками. Правда, могут возразить, что русский народ освобождал западных славян. Но дипломатия царей меньше всего думала о самих славянах, народ же с трудом и неохотой отрывался от сохи для спасения посторонних ему братушек.
Остается литература. В политической и философской ее части – от времен Новикова и Радищева – мы были только компиляторами западных мыслителей, и все светлые идеи гуманизма представлены в России лишь в трудах второго разбора. Конечно, ни Лавров, ни Чернышевский или Михайловский, ни даже Плеханов не коренятся в самой России. Европейская книжность тут лежит основным фундаментом, библией, которою питаются отечественные апологеты и гомилетики. Само славянофильство было вскормлено германской философией, и над колыбелью русского самосознания стояли немцы Даль, Востоков, Орест Миллер.
Что же касается литературы художественной с ее подлинными гениями, то тут хотя и мелькают черты священничества по чину Мелхиседека, но только на некоторых страницах двух-трех ее титанов. Мы не дали миру даже Шпильгагена, ибо смехотворною представляется мысль о переводе Михайлова-Шеллера с целями гуманистической агитации на европейские языки. Что бы это было, если бы «Гнилые болота», шедевр его искусства, стали комментироваться в Лондоне! Очевидно – никакого заражения умов. Но если даже Шпильгаген не удался нам в области беллетристической пропаганды, то Диккенс с его реформой тюрьм сияет нам милой далекой планетой, а Виктор Гюго высится перед нашими глазами, как собор Парижской Богоматери! Не здесь, не в этой области наши лавры. То, что принято в европейский Пантеон из нашей художественной литературы, не имеет ясно выраженного всемирно-политического содержания. Решительно не здесь наши лавры! Но справедливость обязывает меня сказать, что Федоров, увлекаясь призрачными лаврами России на арене мира, отнюдь не был при этом шовинистом. Его душа, алкавшая и жаждавшая вселенской правды, только искала обличил для своих грандиозных идей. И дело сына человеческого, приняв наследственный капитал федоровских воззрений, внести его в общее достояние с прибавочной ценностью возросшей души.
8. Птоломеевское искусство
Одна мысль в философской системе Федорова встречает во мне радостное присоединение. Н. Ф. Федоров указывает на то, что наука в своем прогрессивном росте давно уже вступила на коперниковский путь, тогда как искусство до сих пор пребывает в планах Птоломея. Для науки Земля уже давно не центр Вселенной, а лишь небесная пылинка в составе других величин. Искусство же все еще живет иллюзиями верха и низа, [оно] не только геоцентрично, но не ощущает даже самой шаровидной формы земли, при сознании которой естественно опрокидываются обычные наши представления. Вот почему современное искусство, строясь на кажущемся виде Вселенной, создает не живые, а мертвые подобия жизни. А между тем с тех пор, как человек принял вертикальное положение, равно существующее в своем направлении и для меня, и для моего антипода, все представление мира для него должно было измениться и все его творчество должно было облечься в другие формы. Существующее творчество стелется по земле, тяготея к горизонтам. А тело и дух уже давно вертикальны и какими-то указующими перстами глядят к небу. Необходимо не только понять, но и почувствовать звезды как земли и землю – как небесное тело. Именно этого не сделало до сих пор искусство, и потому Федоров называет его птоломеевским. Только отдельные поэты начинают здесь и там вступать на коперниковский путь, например Сюлли-Прюдом или румынский поэт Эминеску. У поэтов этих размах душевной лирики становится иногда космичным. У русских же поэтов, с пленительным Фетом в центре, звезды – что золотые гвоздики на лазоревом бархате и – в лучшем случае – мигающие лампады на воздушной тверди! Эти лампады только символически призываются для воздействия на нашу психику. Но живое чувство бесконечности у большинства наших лириков почти отсутствует, не питается непосредственными астрономическими гипнозами. В этом отношении поэзия как бы пребывает еще на рудиментарной ступени, сама тешась и почти любуясь такой преднамеренной отсталостью. Но и все другие виды искусств, за исключением некоторых родов архитектуры, особенно готической, влачат существование все еще в птоломеевских иллюзиях и низинах. Душа не звездится. Воображение не обезземилось еще до сих пор, несмотря на Коперника и Канта, несмотря на спектральный анализ, на карты Марса и Луны. Свет брезжит для современного человека все из той же скважины, тогда как для научной мысли уже давно открыт светоносный космос. Солнца горят в беспространственных сферах бесконечно праздничной иллюминацией, а душа даже у больших художников замкнулась в земных туманах. Даже Тютчев не решается шевельнуть древний хаос из темного страха перед ослепительными бесконечностями.







