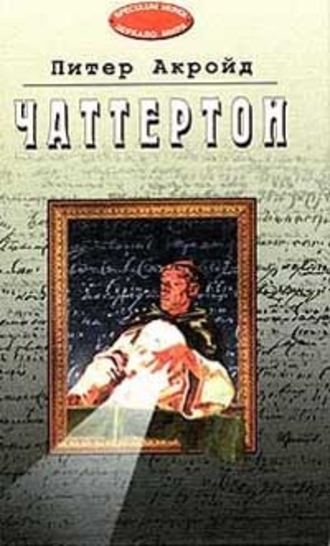
Питер Акройд
Чаттертон
– Прости, – сказал он, оборачиваясь. – Я совсем не хотел кричать.
Эдвард не сводил с него серьезного взгляда.
– Мы с тобой, Эдди, – продолжил он, желая побыстрее сменить предмет разговора, – как следует изучим эту картину. Мы раскроем ее тайну.
Эдвард поднялся с пола, взял за руки обоих родителей и воскликнул:
– Мы все вместе это сделаем!
Но такой оборот дела лишь удручил Вивьен, и она, тихонько высвободив руку и поцеловав сына в макушку, вновь удалилась на кухню.
– Скоро придет Филип, – сказала она. – Так что приготовьтесь-ка оба.
если это подлинник
Филип Слэк в нерешительности остановился посреди комнаты. Он знал Чарльза вот уже пятнадцать лет (они вместе учились в университете), но как будто до сих пор не был уверен в том, что его приходу здесь рады. Слегка склонив голову, он нервно запускал руки то в карманы пиджака, то в карманы брюк, хотя ничего в них не искал.
Эдвард на миг отвлекся от телевизора.
– А куда папа делся?
– Вино. – Заговорив с мальчиком, Филип опустил глаза, и в голосе его послышалось что-то замогильное. – Пошел открывать вино. – Он заходил в гости каждую неделю и всегда приносил с собой две бутылки. Он протягивал их с глуповатым видом, а Чарльз всякий раз удивлялся подарку.
Эдвард по-дружески улыбнулся ему.
– Филип, а можно я потрогаю твою бороду?
– Ну… – Он словно засомневался, как получше это устроить. – Ладно, потрогай. – Он слегка склонился, и Эдвард пребольно дернул его за бороду. Уф!
– Настоящая. – Мальчик явно был разочарован.
Тут с кухни возвратился Чарльз, неся откупоренные бутылки вина.
– Ты бы сел куда-нибудь, Филип. А то наш Эдди нервничает.
Филип прокашлялся.
– Сюда?
– Да куда хочешь. – Чарльз взмахнул бутылками и пролил немного вина на ковер. – Все, что мое – твое.
Филип осторожно осмотрелся, прежде чем выбрать свой привычный – самый неудобный – стул, а Чарльз тем временем уже развалился на диване.
– Совсем заработался, дружище?
– Да, компьютеры. – Филип работал в публичной библиотеке.
– Расскажи мне, что это такое?
Филип уже привык к вечной беззаботности своего друга.
– Обучающие компьютеры. Да ты знаешь.
– Нет, не знаю. – Он развеселился. – Ты не поверишь, но я и правда не знаю. Уж такие мы, безработные. Мы, в сущности, мечтатели. Мы витаем в облаках. – Эдвард рассмеялся, слушая отца. – Ах, вот же, вспомнил. Я должен тебе кое-что показать. – Он спрыгнул с дивана, и Филип, вздрогнув от этого внезапного движения, сам приподнялся со стула. Эдвард, глядя на него, заулыбался. – Что ты об этом скажешь? – Чарльз появился, размахивая портретом, и поднес его почти к самому лицу Филипа.
– Что это?
– Я полагаю, это портрет. А ты, как полагаешь? – Он отступил на несколько шагов и принялся вертеть картину из стороны в сторону, так что это смахивало на заученные движения танцовщицы-стриптизерки. Филипу удавалось сосредоточиться как следует только на глазах: казалось, они сохраняют неподвижность.
– Кто?
– В этом-то и загадка, Холмс. Стоит мне только ее разгадать, и я вмиг разбогатею! – В тот же миг в комнату вошла Вивьен с посудой, и Чарльз поспешил спрятать картину. Филип неуклюже поднялся, чтобы поздороваться с ней, и при этом залился краской. Он восхищался Вивьен; он восхищался ею за то, что она «спасает» Чарльза, как сам себе часто объяснял. В этом он был вполне прав: он знал, что ее стойкость защищает Чарльза точно так же, как ее присутствие успокаивает его самого. Целуя ее в щеку, он вдохнул теплый аромат духов.
Эдвард, требуя к себе внимания, дергал мать за край платья:
– Мам, не трогай его бороду. Она настоящая. И колется.
Через минуту они уже сидели за обеденным столиком, и Вивьен разливала суп.
– Это еще что? – поморщился Эдвард, глядя на то, как в его тарелку льется коричневая жидкость.
Чарльз рассмеялся, видя недоумение сына:
– Это маллигатони, Эдди. Суп старушки-вдовы Туанкай,[9] сварен из маленьких мальчиков. Как знать, не угодил ли туда кто-нибудь из твоих приятелей.
– Перестань, Чарльз. – Вивьен нахмурилась. – Ему еще ужасы всякие будут сниться.
Эдвард смотрел то на отца, то на мать и хихикал. Чарльз что-то прошептал ему на ухо, и мальчик чуть не свалился на пол от хохота, так что Вивьен пришлось силой усаживать его за стол. Потом, по просьбе Вивьен, Филип начал сбивчиво рассказывать о своей работе – как уборщицы собрались было бастовать, как зашла речь о том, чтобы запретить кое-какие книги и газеты, оскорблявшие чувства его коллег с предубеждениями. Но Чарльз никогда особенно не интересовался тем, что творится у Филипа на работе, и поэтому, не обращая внимания на остывший суп, он принялся рассказывать сыну длинную и запутанную историю о привидениях. Закончив рассказ, он вскричал страшным голосом: «Вы все умрете!»
Воцарилось молчание. Вивьен убрала со стола, а затем принесла второе блюдо – бараньи отбивные – с гарниром из морковки и жареной картошки. Теперь Чарльз с Филипом, как у них частенько водилось, принялись обсуждать сверстников, которых знали по университетским годам. Они обменивались свежими новостями об иных незадачливых или невезучих знакомых, но то сочувствие, которое оба на деле к ним испытывали, оставалось почти невысказанным. До знакомства с Чарльзом Вивьен работала секретаршей, и на первых порах ее удивляла такая сдержанность; теперь же она воспринимала их привычное немногословие как должное. О своих удачливых сверстниках они говорили и того меньше, а если и говорили, то с необычайной осторожностью, граничившей с нерешительностью, – как если бы оба сознавали опасность показаться завистниками. Прежде, бывало, Чарльз проводил немало приятных часов вместе с Филипом, пародируя или добродушно высмеивая сочинения молодых писателей, в которых не находил ни капли таланта. Но в последние годы он прекратил подобные забавы.
Филип, уже несколько раскрепостившись благодаря выпитому, сообщил:
– Вышел новый Флинт.
Чарльз встретил новость с неожиданным вниманием, и Филип посмотрел в тарелку.
– Это роман, – добавил он более осторожно.
– Как называется?
– Тем временем. – Филип не знал, улыбнуться ему или нет, и, ища подсказки, поднял глаза на Чарльза.
– О, это так модно. Так современно. Я бы даже сказал, живописно. Чарльз подражал переливчатым интонациям Эндрю Флинта: ему они были хорошо известны, поскольку в университетскую пору они с Флинтом дружили. Тогда ему даже нравилось флинтовское сочетание велеречия и острословия. Теперь же он не преминул добавить: – Жаль, что писатель он никудышный.
– Да. – Филип всегда считался с мнением Чарльза в таких вопросах, но все же решился на маленькое уточнение: – Странно, но его ведь раскупают.
– Да мало ли кого раскупают, Филип. Раскупают кого угодно.
Вивьен и Эдвард, которым надоело слушать этот разговор, стали уносить посуду на кухню. Темнело, и, когда беседа вдруг смолкла, Чарльз Вичвуд услышал звон убираемой посуды в других комнатах, чьи-то голоса и смех в соседних квартирах. На миг ему показалось, что все остальные жильцы дома просто назойливые чужаки, какие-то уродливые образы, родившиеся в посторонней голове.
– Я ненавижу этот дом, – сказал он Филипу. Сумерки уже сгустились, и оба, очутившись в тени, не двигаясь, смотрели друг на друга. – Но что же поделать? Куда нам еще податься? Где еще нам по карману поселиться?
В комнату возвратилась Вивьен, и, как только она зажгла свет, Чарльз снова повеселел.
– Почему бы тебе не поместить в свою библиотеку мою книжку? – вдруг спросил он Филипа. – Тогда я мог бы взять общественную ссуду.
– Недурная мысль.
Филип помешивал ложкой десерт из ревеня, который поставила перед ним Вивьен. Он знал, что под «книжкой» Чарльз разумеет свои стихи, которые они с Вивьен размножили на ксероксе, скрепили и отнесли в несколько книжных магазинов. Насколько Филипу было известно, они до сих пор пылились там на полках. Вивьен почувствовала смущение Филипа и поспешно предложила ему еще взбитых сливок к ревеню, а затем они заговорили о другом. Хотя ни Чарльз, ни Филип не приписывали университету каких-либо особенных достоинств (скорее наоборот), от Вивьен все же не могло укрыться, что – по крайней мере, когда друзья говорили между собой, – их отзывы о своей жизни после студенческих лет были куда более сдержанными и вялыми. Казалось, годы, истекшие с той поры, – всего лишь вешки в какой-то игре, лишенные подлинной значимости, а порой и всякого смысла. О событиях недавнего времени оба говорили как-то вскользь, лишь отдельными фразами или незаконченными предложениями, как если бы они не заслуживали серьезного внимания. Вот и теперь, поглощая ревень со сливками, они всё спрашивали себя, что же сталось с их жизнью.
– Скроуп, – наконец тихо произнес Филип, вглядываясь в свои брюки, куда ускользнула полоска ревеня.
– Что? – рассеянно переспросил Чарльз.
– Ты иногда видишься с Хэрриет Скроуп?
Вивьен подалась к мужу:
– Вот кто помог бы тебе напечататься.
Чарльз был заметно раздосадован.
– Мне не нужна ничья помощь! – сказал он, а потом добавил: – Я уже напечатался.
Хэрриет Скроуп была романисткой довольно-таки преклонных лет, у которой Чарльз недолгое время проработал личным секретарем. Он оказался не самым аккуратным и умелым помощником, и спустя полгода они расстались, впрочем, вполне по-дружески. Это было четыре года назад, но Чарльз до сих пор отзывался о ней с сердечной теплотой – разумеется, когда вообще вспоминал о ее существовании. Его гнев быстро улегся.
– Интересно, как там поживает старушка, – произнес он. – Интересно… – Он собирался сказать что-то еще, но тут в комнату ворвался Эдвард, уже в пижаме, и пустился в пляс вокруг стула, на котором сидел отец.
– А как же сказка? – канючил он. – Уже поздно!
Вивьен уже собиралась оттащить его от стола и унести, но Чарльз остановил ее.
– Нет, – сказал он, – ему правда нужна сказка. Сказки нужны всем.
И отец с сыном гуськом прошагали в спальню, оставив Вивьен с Филипом одних. Филип слегка прокашлялся; сдвинул пустую тарелку на дюйм вправо, затем передвинул на прежнее место; взгляд его блуждал по комнате, избегая Вивьен. Наконец он заметил портрет, который Чарльз оставил у письменного стола.
– Любопытно, – сказал он вслух, – любопытно, кто же это? Можно? – Он быстро поднялся из-за стола и подошел к картине.
это он
Чарльз обожал рассказывать сыну сказки. Стоило ему только присесть на краешек узкой детской кроватки, как слова начинали литься сами собой. Это были не слова из его стихов – ясные и точные, а совсем другие – яркие, сочные, вкусные, необычные; он называл их своими «сказочными» словами. И в этот вечер он тихонько беседовал с Эдвардом, сотворяя мир, где под лиловыми небесами катались по полям огромные кролики, где статуи двигались, как живые, а вода умела говорить, где за гигантскими деревьями щерились большие камни. В этом мире дети жили себе век за веком и не взрослели, обещая позабыть родные края…
Эдвард уже уснул. Но Чарльз все еще сидел подле него, наблюдая, как медленно тускнеет созданное им видение.
Когда он наконец возвратился в гостиную, Филип разглядывал лицо изображенного на портрете.
– Чаттертон, – произнес он.
– Прости. Я был за тридевять земель.
Филип обернулся, и глаза его ярко блестели.
– Это Томас Чаттертон.
Чарльз все еще грезил о той дальней стране.
– «О мальчик дивный, – проговорил он машинально, – в гордости погибший…»[10]
– Вглядись в этот высокий лоб и эти глаза. – Филип проявлял непривычную настойчивость. – Ты не помнишь мою картину?
Чарльз смутно припоминал репродукцию портрета, изображавшего Чаттертона в юности, которая висела в квартирке Филипа,
– Но разве он не умер совсем маленьким?.. То есть совсем молодым? – Он бросил почти извиняющийся взгляд на Вивьен, но та углубилась в вечернюю газету. – Разве он не покончил с собой?
– В самом деле? – Филип загадочно посмотрел на свои ботинки.
– Ну, раз ты мне не веришь. – Чарльз устремился к книжному шкафу и снял с полки увесистый том. Найдя нужное место, он зачитал вслух: – «Томас Чаттертон, имитатор средневековой поэзии и, пожалуй, величайший литературный мистификатор всех времен. Родился в 1752 году, покончил с собой в 1770 году» – Чарльз звучно захлопнул книгу.
– Все равно это он.
– Ах, скажи-ка на милость. Чертовски занимательно. – Оба происходили из бедных лондонских семей, и порой Чарльз развлекал Филипа, уморительно пародируя выговор «высших сословий».
Но сегодня Филипа развлечь не удавалось.
– Нет, кроме шуток, это он.
Видя, сколь серьезно настроен его друг, Чарльз взглянул на портрет и принялся раздумывать, а не кроется ли за этой догадкой истина.
– Я ведь говорил, в нем есть что-то знакомое, – правда, Вив?
Она лишь кивнула, не отрываясь от газеты. Пока Чарльз говорил, его скептицизм сам собой улетучивался:
– Быть может, это и впрямь он… Как знать? – И вдруг, с внезапным волнением, он воскликнул: – Посмотри на книги, что лежат рядом с ним! Может, они нам подскажут!
Филип приблизил к ним внимательный взгляд, как если бы усилием воли ему удалось проникнуть сквозь наслоения пыли и грязи, за долгие годы въевшихся в холст.
Пока оба предавались этому сосредоточенному созерцанию, Вивьен незаметно поднялась и ушла на кухню, унося остатки посуды. Она понимала, что картина для Чарльза – лишний повод уклониться от работы, и это тревожило ее, поскольку она верила в его поэзию не меньше, чем он сам. Они познакомились лет двенадцать назад на вечеринке, и уже тогда Вивьен почувствовала, что он человек необычный; и это первое впечатление с годами не изгладилось из ее памяти. Уже тогда он рассмешил ее, но пока он шутил и дурачился, она сумела разглядеть, насколько он беззащитен. Вскоре она вышла за него замуж – прежде всего, для того, чтобы оградить его от мира. Она прикрыла за собой кухонную дверь, но их взволнованные голоса все равно долетали до нее. Затем вбежал Чарльз и попросил у нее теплой воды и какую-нибудь тряпицу.
Когда он вернулся в комнату, Филип уже положил картину на пол. Чарльз медленно провел влажной тканью по поверхности холста: и вдруг то, что прежде выглядело как тень – быть может, от некоего предмета, оставшегося вне поля зрения художника, – оказалось просто-напросто скоплением грязи и пыли, которое теперь легко удалялось. Цвет портьер, висевших за спиной изображенного, стал насыщенней, а очертания их складок – отчетливей. Казалось, эти чистые цвета и линии возникают от прикосновения руки Чарльза, словно он в эту минуту сам становится художником – и словно последние штрихи к портрету наносятся прямо сейчас.
– Еще вот тут, – Филип указывал на темноватые буквы, проступившие в правом верхнем углу. – Ну, теперь можешь их прочесть?
Чарльз приблизил лицо к картине, так что его дыхание согревало холст, и прошептал:
– "Pinxit[11] Джордж Стед. 1802 год". – Он нетерпеливо проехался тряпкой по остальной части картины и начал пристально вглядываться в изображение четырех книг. Теперь, когда краски обрели непривычную яркость, казалось, корешки сверкают как новенькие. Наконец четко проступили названия, и он вслух зачитал их Филипу: это были Кью-Гарденз, Месть, Элла и Вала.
Филип разлегся на полу и уставился в потолок, а потом заболтал ногами в воздухе, как будто оседлав вверх тормашками невидимый велосипед.
– Ну? – Чарльз смотрел на него в изумлении.
– Книги те самые, – произнес Филип куда-то вверх.
– Что?
– Это сочинения Чаттертона. – Казалось, он смеялся над каким-то забавным зрелищем, которое разворачивалось на потолке.
Чарльз быстро встал и снова полез за справочником, куда заглядывал несколько минут назад. Читая вслух, он сам заметил, как дрожат его руки:
– «Томас Чаттертон закончил свою псевдо-средневековую поэму Вала за несколько дней до самоубийства. Однако некоторые считают, что его последним сочинением был фарс под названием Месть». – Он приблизился к Филипу и тихонько поднял его на ноги. – Если он родился, – сказал он, – то есть, если это правда. Если он родился в 1752 году, а портрет был написан в 1802 году, то здесь ему должно быть около пятидесяти. – И еще раз поглядел на пожилого мужчину, изображенного на полотне.
– Продолжай.
– А это значит – а это значит, – что Чаттертон не умирал. – Чарльз умолк, пытаясь собраться с мыслями. – Он продолжал писать.
Голос Филипа снова стал совсем тихим:
– Так что же произошло.
Он не договорил своего вопроса, но Чарльз уже понял, куда тот клонит. Тут-то ему и раскрылась истина.
– Он сфальсифицировал собственную смерть.
В этот миг зазвонил телефон, и оба в панике вцепились друг в друга. Затем Чарльз рассмеялся, и, будучи в веселейшем расположении духа, проворковал в трубку:
– Как поживаете, сэр? Я как раз ждал вашего звонка. – Но его воодушевление быстро пропало, а когда Вивьен заглянула справиться, кто звонит, он прикрыл ладонью трубку и прошептал: – Хэрриет Скроуп. – Беседуя с Хэрриет, он исполнял на ковре бесшумный танец, слегка согнув ноги в коленях и семеня крошечными шажками то взад, то вперед. – Хочет меня увидеть, – сообщил он Вивьен, положив трубку.
– Зачем?
– А этого она, собственно, не сказала.
Да его это и не очень занимало: он отвлекся лишь ненадолго, а теперь его воодушевление снова вернулось. Он приобнял Филипа за плечи, и они вместе поглядели в глаза Томасу Чаттертону.
– О да, – вымолвил наконец Чарльз, – если это подлинник, это он.
2
Хэрриет Скроуп была не в духе. Она ерзала на своем ветхом плетеном стуле, и ивовые прутья кололи спину и ягодицы. Это причиняло массу неудобств, но она привыкла именно к такого рода неудобству, а сейчас оно даже доставляло ей некоторое удовольствие. «Что-то Матушке не по себе», произнесла она. Потом она откинулась на спинку стула и с отвращением обвела взглядом комнату: фотографии в рамках над камином, по бокам два стола из темного дуба, обтянутый голубым шелком диван, репродукции Хогарта[12] на стене, ультрамариновый ковер с длинным ворсом от Питера Джонса, телевизор «Сони», экземпляр джонсоновского словаря,[13] служивший постаментом для посмертной маски Джона Китса, которая была воспроизведена в ограниченном количестве копий. «Когда я умру, – подумала Хэрриет, – когда я умру, всё это растащат», – и попыталась представить, как эти предметы будут существовать в чужих домах после ее смерти. И чем больше она предавалась таким мыслям, тем больше ей казалось, что ее в этой комнате уже нет…
Очнувшись, она взглянула на своего кота, который, свернувшись клубком, дремал на нижней полке книжного шкафа. Он тут же встревоженно приоткрыл один глаз. «Матушке осточертело все это, – сказала она. – Пусть бы все это сгорело». А заодно сгорела бы и вся ее жизнь, исчезнув в ярком пламени, колеблющем воздух.
Тут дверь приотворилась, и Хэрриет замерла. Показалась рука, затем лоб, затем пара глаз, а затем послышался тонкий голосок:
– Ах, мисс Скроуп, я, собственно, думала, что вы спите. – Это была Мэри, новая помощница Хэрриет.
Та поднялась со стула с видом чрезвычайного достоинства.
– Я не храпела. Я разговаривала с мистером Гаскеллом.
– Мне очень жаль…
Хэрриет скрестила руки на груди.
– Жалеть тут не о чем. Ведь меня же не изнасиловали, а в рот не забили чулок – не правда ли, дорогуша?
Мэри сочла, что та обращается к коту, и сочувственно улыбнулась ему, входя в комнату.
– Вам бы, собственно, чего-нибудь хотелось, Хэрриет?
Хэрриет поморщилась: она разрешила этой молодой женщине звать ее просто по имени, но теперь раскаялась в этом. В ее слабеющем сознании мелькнула мысль о том, что было бы неплохо раздеть эту нахалку до белья и как следует выпороть. Она благодушно улыбнулась:
– Нет, дорогая, благодарствую. Я полностью одета и довольна жизнью. Она нагнулась и потрепала мистера Гаскелла за рваное левое ухо. – Ведь Матушка весела как никогда, правда?
Неожиданный порыв ветра, ворвавшийся из-за растворенной двери, заставил затрепетать ноздри Хэрриет, и она в тревоге обернулась к Мэри:
– Что это за запах такой в комнате, а? – Она встала на четвереньки и принялась обнюхивать ковер. Мэри на секунду опешила, но потом в порыве доброхотства тоже опустилась на колени и понюхала воздух в нескольких подозрительных углах. Ей казалось, что она уже научилась понимать свою работодательницу, и она вознамерилась не удивляться ни ее словам, ни поступкам. Она прочла все ее романы, которые в разговорах с друзьями характеризовала как «занимательные, собственно», хотя втайне ужасалась иным особенностям фантазии Хэрриет.
Так они ползали гуськом по ковру, пока не столкнулись задами. Хэрриет сердито взглянула на помощницу.
– Что тебе вздумалось делать с моей задницей? Тут не позволено шарить никому, кроме меня. – Мэри неловко поднялась, по-прежнему умудряясь улыбаться Хэрриет, которая теперь пробовала на вкус клочок ворса, отставший от ковра. Она решила сохранять на лице эту улыбку до тех пор, пока Хэрриет не встанет и не увидит ее: Мэри хотелось показать ей, как она ею очарована и покорена. Наконец Хэрриет поднялась и пробормотала:
– Должно быть, просто померещилось. Мне в последнее время много всего мерещится.
Она с облегчением обернулась к Мэри:
– Ну что, может, послушаем музыку? – и подмигнула. – Вы, молодые, всё знаете про пищу любви, разве не правда? – Она нажала на кнопку своего переносного радиоприемника «Грюндиг», и тут же комнату наводнили звуки популярной мелодии. – Мистер Гаскелл! – проговорила она с мягким укором как будто это кот злонамеренно включил не тот канал, – и, вытянув руки, попыталась схватить его, но кот с мяуканьем выбежал из комнаты. – Засранец! – прокричала она, глядя, как животное скрывается за дверью. Затем она с нарочитым видом настроила движок на радиостанцию классической музыки, и некоторое время они молча внимали песенному циклу Шумана. Хотя музыка чаровала романтической гармонией, а в песне что-то говорилось о пропавшем попугае, – лицо Хэрриет принимало все более каменное выражение. Она рассеянно протянула руку, чтобы погладить кота, но нащупала лишь воздух. Но и это, казалось, несколько утешило ее. – Что же Матушке делать? пробормотала она в пустоту. – Как ей следует быть?
Мэри, всегда готовая хоть как-то отозваться, решила, что на сей раз Хэрриет обращается к ней.
– С запахом, вы хотите сказать?
Казалось, Хэрриет не расслышала. Она резко выключила радио – как раз в тот миг, когда попугай уже должен был возвратиться с детской туфелькой в клюве.
– Ты допечатала мои записи, милая?
Наконец Мэри поняла, о чем говорит Хэрриет, и немедленно оживилась.
– Да, конечно. И мне представляется… – На протяжении последнего месяца Мэри Уилсон ежедневно усаживалась с магнитофоном, помещавшимся как-то неловко и шатко у нее на коленях (она пыталась было показать, что ничего не смыслит в технике и прочих современных хитростях, но одного взгляда Хэрриет оказалось достаточно, чтобы разубедить Мэри в том, что это возвысит ее в глазах нанимательницы), пока Хэрриет вслух – громким, хотя порой и дрожащим голосом, – вспоминала о своем литературном прошлом. Лягут ли эти воспоминания в основу автобиографии, которую как-то в минуту уныния предложил ей написать ее издатель, или превратятся в какой-нибудь дневник, – Хэрриет еще предстояло решить. Разумеется, если вообще зайдет речь о таком решении.
– И мне представляется…
– Да-да? И что же тебе представля-ается?
Мэри не обратила внимания на тон Хэрриет. Она лишь недавно закончила изучать английскую литературу в Оксфорде, и ей не терпелось выказать премудрость, приобретенную на университетских занятиях.
– Мне представляется, что они крайне неверно истолковали модернизм.
– Кто же эти они, дорогая, позволь полюбопытствовать? – Хэрриет все время придиралась к этому местоимению, говоря, что в подобном значении оно «плоско как доска».
Мэри запнулась.
– Ну, академики, которые дали ложную оценку… – Она сама толком не знала, что собирается сказать, и Хэрриет прервала ее:
– Так значит, тебе известно – что правда, а что ложь? – Мэри слегка зарделась, и Хэрриет смягчилась. И заговорила тем голоском «домохозяйки-кокни», который она нередко имитировала в порядке «шутки» еще с пятидесятых годов. – Таки скушай себе пирожнецо, и порядок! Эй ты, ты чё тут вздумал? – Последняя фраза была адресована мистеру Гаскеллу, который пулей влетел в комнату и внезапно замер перед стулом Хэрриет. – Чего тебя тыгда трывожит? А-га-а, знаю-знаю. Знаю-знаю. – И, продолжая бормотать эту литанию себе под нос, Хэрриет поднялась и направилась к небольшому алькову в углу комнаты, где смутно виднелись ряды бутылок. Она налила себе джина, но прежде спросила у Мэри: – Жылаешь чего, цветик мой? – Мэри с благодарностью отклонила предложение. – Ну вот и славно, девочка моя. – Она вернулась с порцией джина и, заново устроившись в своем неудобном плетеном стуле, взяла серебряную чайную ложечку, лежавшую на столе сбоку. Затем она принялась прихлебывать джин с ложки: она свято верила, что соприкосновение алкоголя с металлом, а также малые (пусть и частые) дозы, никогда не дадут ей опьянеть. Однако таковая теория еще не обрела научного подтверждения, и бывало, что в «тихий час» – когда, по утверждению Хэрриет, ей было необходимо «задрать лапы кверху», – до Мэри долетали слова какого-нибудь известного стихотворения, которые та заунывно напевала. Хэрриет взирала на Мэри поверх края ложечки. – Ну, теперь, когда ты их отпечатала, я надеюсь, тебе захочется привести их в порядок.
– Простите?
– Мои заметки. – Она на миг помедлила. – Собственно.
Мэри явно не понимала, о чем речь.
– Я купила для них папку…
Хэрриет звучно расхохоталась, и вновь в ее воображении мелькнула дивная картина: как ее помощницу хлещут кнутом у нее на глазах.
– А я-то надеялась получить от вас помощь посущественнее, мисс Уилсон. – Видимо, она пожалела, что внезапно перешла на официальный тон. – Знаешь ли, просто чтоб сберечь мне время. Ведь, в конце концов, время былое есть время грядущее – не так ли, милочка? – Тут она скорчила страшную рожу коту, растянув пальцами рот до ушей, а потом возобновила беседу. – Разве я ничего не рассказывала тебе о Томе Элиоте, о том, как он танцевал со мной у себя в «Фабере»?[14] – Мэри кивнула, хотя теперь она уже с тревогой недоумевала, куда клонит ее работодательница. – Он был ко мне так добр… – говорила Хэрриет; в действительности, ее воспоминания о поэте были весьма скудны, да к тому же она вовсе не была уверена, что тот знал, кто она такая. Мэри изобразила на лице почтение и замерла в ожидании, пока ее нанимательница четырежды отхлебнула джина – ложку за ложкой. – Так отчего бы тебе не увязать милягу Тома с теми кусочками про Фицровию? – Она слизнула с верхней губы капельку зелья. – Ну знаешь, какая-то связь ведь должна быть. Я же не могу сама обо всем помнить. – Она снова направилась к алькову и наполнила стакан; мистер Гаскелл последовал за ней и принялся щекотать ей ноги хвостом, пока она стояла перед строем бутылок. Тогда Хэрриет наклонилась плеснуть чуть-чуть джина в кошачье блюдечко, оставленное там на полу. Выпрямилась она с трудом. – Я не могу сама. Просто не могу.
– Не можете расправиться, да?
– Нет, мисс Уилсон. Подняться-то я всегда сумею. Я как Лазарь – уж хотя бы в этом смысле. – Она рассталась со стаканом, пересекла комнату и склонилась над Мэри; она подошла к своей помощнице так близко, что та ощутила сладкую примесь алкоголя в ее дыхании. – Я не могу сама писать о прошлом. Руки у Матушки связаны – разве не видишь? – Она вытянула перед собой руки, положив одну на другую так, словно они были накрепко перехвачены веревкой. Мэри взглянула на них с ужасом, а Хэрриет тем временем изучала буроватые пятна на своей морщинистой увядшей коже. – Ведь столько приходится скрывать, – произнесла она.
Мэри встревожилась.
– Но я тоже этого не могу!
– Не можешь чего?
– Не могу писать за вас. Не могу же я выдумывать.
Хэрриет принялась гладить ее по голове.
– Но разве ты не знала? Ведь всё на свете выдумано.
о чем мы не можем говорить
Как только Мэри ушла, бесшумно затворив за собой парадную дверь дома, Хэрриет вскочила с места и, включив приемник, снова нашла радиостанцию с поп-музыкой. Комната содрогалась от шума, кот в испуге отпрянул, а она во внезапном порыве энергии стала подпрыгивать и кружиться. Остановилась она так же резко, как и завелась, уставившись в зеркало с рамой из золоченой бронзы над камином. «Слушай, – обратилась она к своему отражению, повторяя слова из песни, – я расскажу тебе один секрет».
Она выключила радио и, сняв телефонную трубку, неторопливо набрала номер. Как только раздались гудки, она принялась говорить в пустоту: «Нет, мисс Уилсон, я подпишу этот документ попозже». Каждый раз, когда она бралась за телефон, ей хотелось создать впечатление, будто она по горло занята спешными делами. «Алло, милочка, это ты?» На сей раз она обращалась уже к живому человеку – к своей ближайшей подруге Саре Тилт. «Ну как, тебе получше? Надеюсь, есть какое-то движение в недрах? Прекрасно. Наконец-то. Послушай, милочка, Матушка намечает небольшую вылазку». Наступила пауза. «Да, это довольно-таки важно». Она состроила гримасу мистеру Гаскеллу и прошептала ему: «Не проболтайся!» Затем она прислушалась к голосу подруги, в котором звучало всё большее нетерпение. «Что ты сказала, дорогая? Нет, я ненадолго». Она положила трубку, шлепнула по ней и проворчала: «Сучка!»
Выйдя из дома, она сразу же почувствовала прилив воодушевления. Она жила на маленькой улочке вблизи Брайенстон-Сквер – в районе рядом с Мраморной Аркой, который она настойчиво продолжала звать Стукконией или находясь в особенно игривом настроении – Тайбернией.[15] Ей доставляло особое удовольствие показывать посетителям небольшую памятную табличку на том месте, где некогда стояла виселица: «Когда-то вешали за шестипенсовик, любила повторять она, – а теперь и монеты такой не существует! Странные штуки проделывает с нашими кошельками история».
Но сегодня она направлялась в сторону Бейсуотера, где жила Сара Тилт. Невзирая на многочисленные свидетельства в пользу противного, Хэрриет все еще полагала, будто ходьба «успокаивает» ее, а нечто вроде форсированного марша помогает ей «обмозговать дела». Совершая такие долгие и хаотичные прогулки, она успела заново окрестить все знакомые улицы в окрестностях, и вот теперь она шагала по Долине Костей, через Рай Потаскушек и по Бульвару Разбитых Грез. Вступив в Долину Костей (названную так из-за сверкающих белых фасадов георгианских особняков), она начала раздумывать о своем бесплодном разговоре с Мэри. Разумеется, Хэрриет не могла написать обо всем сама. Если бы она рассказала правду и описала подлинную историю своей жизни, если бы она раскрыла то, что даже наедине с собой называла своим «секретом», то против нее поднялась бы волна возмущения, несущая возмездие и очищение, которая (здесь у нее не было сомнений) привела бы к ее смерти… И она задрожала от предвкушения скандала, проходя по Бульвару Разбитых Грез (место, где собирались гомосексуалы), а там повернула в Рай Потаскушек.







