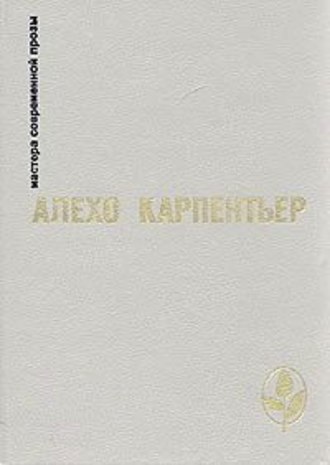
Алехо Карпентьер
Царство земное
II. Королевский дворец
Ти Ноэль в числе первых бросился грабить дворец Сан-Суси. По этой-то причине и были меблированы столь причудливым образом развалины бывшей усадьбы Ленормана де Мези. Подвести их под кровлю по-прежнему не представлялось возможным, поскольку отсутствовали поверхности, могущие служить опорами для балки либо бревна, но старик, орудуя мачете, высвободил из зарослей еще несколько каменных останков различных частей здания, и на свет божий появились глыбы фундамента, подоконник, три ступеньки, кусок стены, на кирпичах которой сохранился алебастровый лепной карниз, каким обыкновенно украшали столовые в нормандском вкусе. В ту ночь, когда по Равнине сновали мужчины, женщины, дети, таща на голове кто часы с маятником, кто стулья, кто балдахины, кто жирандоли, кто скамеечки для молитвы, кто лампы и тазы для умывания, Ти Ноэль несколько раз наведывался в Сан-Суси. Таким образом он стал обладателем наборного столика работы Буля; столик стоял перед кухонным очагом, который служил старому негру опочивальней и труба которого была заткнута соломой, а вокруг Ти Ноэль расставил ширмы из далекого Короманделя [134], затканные смутными фигурами по тусклому золоту фона. На уцелевших плитах пола, разрушенного травами и корнями, покоилось чучело луны-рыбы, некогда поднесенной в дар принцу Виктору королевским ученым обществом Лондона, а рядом стояла музыкальная шкатулка и толстостенный графин зеленого стекла с застывшими внутри пузырьками, которые переливались всеми цветами радуги. Еще Ти Ноэлю досталась кукла в наряде пастушки, мягкое штофное кресло и три тома Французской энциклопедии, которыми он пользовался как сиденьем во время трапез, состоявших из стеблей сахарного тростника.
Но больше всего радости доставляло старику обладание камзолом Анри Кристофа, зеленым шелковым камзолом с нежно-розовыми кружевными манжетами, в котором Ти Ноэль щеголял постоянно; наряд его довершала соломенная шляпа, сплюснутая и примятая наподобие треуголки, и шляпа эта, украшенная алым цветком вместо кокарды, придавала Ти Ноэлю поистине королевский облик. В послеполуденную пору он похаживал среди своей мебели, расставленной под открытым небом, возился с куклой, умевшей закрывать и открывать глаза, либо заводил музыкальную шкатулку, без конца наигрывавшую все тот же немецкий лендлер. Теперь Ти Ноэль говорил без умолку. Он говорил, остановясь посреди дороги и размахивая руками; говорил, обращаясь к обнаженным до пояса прачкам, стоявшим на коленях в мелких ручьях с песчаным дном и полоскавшим белье; говорил, обращаясь к детям, водившим хоровод. Но больше всего говорил он, когда усаживался за свой наборный столик и брал в руку ветку гуайявы, которую держал наподобие скипетра. На память ему приходили смутные обрывки историй, которые рассказывал однорукий Макандаль столько лет назад, что он сам запамятовал, когда это было. Постепенно в нем крепла уверенность, что ему предстоит свершить некое деяние, хотя суть этого деяния не была ему открыта ни знамением, ни вещим голосом. Во всяком случае, деяние будет великое, достойное человека, который прожил столько лет на этой земле и наплодил столько детей по ту и по сю сторону моря, а они об отце и думать забыли, помнят только о собственных детях. И по всему явно было, что близится время великих дел. Когда за поворотом тропинки ему встречались женщины, они махали ему светлыми платками в знак почтительного приветствия, склоняясь перед ним, как пальмы, что в день воскресный склонились перед Христом, радуясь Спасителю. Когда он проходил по деревне, старухи приглашали его присесть на пороге хижины, угощали глотком прозрачного рома в плошке из выдолбленной тыквы либо только что скрученной сигарой. Однажды, под перестук барабанов, в плоть Ти Ноэля вселился дух монарха, властителя Анголы, и старик произнес длинную речь, полную недомолвок и посулов. А потом на земли его пришли стада. Ибо все эти коровы, и козы, и овцы, что щипали траву средь развалин, служивших ему дворцом, были поднесены ему в дар подданными, тут не могло быть сомнения. Развалясь в кресле, расстегнув камзол, нахлобучив соломенную треуголку и неспешно почесывая голое брюхо, Ти Ноэль отдавал распоряжения в пространство. Но то были эдикты благодушного правителя, ибо свободе, им установленной, казалось, не грозил деспотизм ни со стороны белых, ни со стороны черных. По воле старика пустырь меж обломками стен становился вместилищем множества прекрасных вещей, прохожему он жаловал сан министра, а крестьянину с серпом – генеральский чин; он даровал титулы, раздавал венки, благословлял девушек, а за верную службу награждал своих подданных полевыми цветами. Так учредил он Орден Горькой Метелки, как в народе зовут чернобыльник, и Орден Рождественского Дара, белого вьюнка-колокольчика, что растет в полях, и Орден Доброго Моря, пышноцветной тропической мальвы, и Орден Ночного Красавчика, называемого еще ночным жасмином. Но самым почетным и желанным был Орден Подсолнуха, ибо он был ярче и крупнее всех прочих. Остатки изразцового пола в его аудиенц-зале под открытым небом были местом, весьма удобным для танцев, а потому во дворец частенько заглядывали крестьяне, и они приносили с собою бамбуковые свирели, чача и литавры. В расщепленных толстых сучьях были зажаты горящие лучины, и Ти Ноэль, кичась пуще прежнего своим зеленым камзолом, восседал во главе стола между Отцом из Саванны, представителем церкви мятежных негров, и старым солдатом, участником битвы при Вертьере, в которой был разбит Рошамбо [135]; в торжественных случаях он облачался в походный мундир, некогда синий, а теперь блекло-голубой, да и отвороты из красных стали розоватыми, ибо крыша его хижины немилосердно текла.
III. Землемеры
Но однажды утром пришли землемеры. Нужно видеть землемеров за делом, чтобы представить себе, какой испуг могут нагнать своим присутствием эти существа, занятые деятельностью, сходной с деятельностью насекомых. Землемеры, появившиеся на Равнине, прибыли из далекого Порт-о-Пренса, перевалив через подернутые туманом кряжи; то были немногоречивые люди с очень светлой кожей и одетые – должно сознаться – самым заурядным образом; но они растягивали по земле длинные ленты, вбивали колышки, укрепляли отвесы и поминутно пускали в ход линейки и угольники. Когда Ти Ноэль увидел, что эти подозрительные господчики шныряют по его землям, он обратился к ним с гневной речью. Но землемеры не стали его слушать. Они нагло ходили где вздумается, все измеряли и толстыми плотницкими карандашами заносили пометки в свои серые книги. Старик с негодованием отметил, что они изъясняются на языке французов, ненавистном языке, который он успел позабыть с тех пор, как мосье Ленорман де Мези проиграл его в карты в Сантьяго-де-Куба. Назвав землемеров сукиными детьми, Ти Ноэль повелел им убраться прочь и так возвысил голос, что один из пришельцев схватил его за шиворот и, хлопнув линейкой по животу, отшвырнул в сторону, чтобы старик не торчал в поле зрения его окуляра. Ти Ноэль укрылся у себя в кухонном очаге и, высунув голову из-за Коромандельской ширмы, выплевывал проклятья. Но на другой день, блуждая по Равнине в поисках пропитания, он обнаружил, что землемеры кишат повсюду, негры сотнями трудятся на полях, расчищая их и размежевывая, а за их работой наблюдают мулаты верхами, в рубахах с отложным воротником, широких шелковых поясах и ботфортах. Навстречу ему во множестве попадались крестьяне на осликах, навьюченных коробами с курами и поросятами; бросив свои хижины, они перебирались в горы, а женщины вопили и плакали. Один из беглых рассказал Ти Ноэлю, что работа на полях снова стала принудительной, а плеть теперь в руках у мулатов-республиканцев, новых хозяев Северной равнины.
Макандаль не мог предвидеть такой напасти, как принудительный труд. И Букман, негр с острова Ямайка, тоже не мог. Власть мулатов – это было что-то новое, не входившее в замыслы Хосе Антонио Апонте [136], который был обезглавлен по приказу маркиза де Сомеруэлоса, – историю его мятежа Ти Ноэль узнал, когда был рабом на Кубе. Даже Анри Кристофу едва ли пришло бы в голову, что земли Сан-Доминго станут добычей этой сомнительной аристократии, этой касты полукровок, прибравших к рукам имения, привилегии и должности. Старик поглядел в ту сторону, где высилась цитадель Ла-Феррьер. Но туман стоял у него в глазах, он уже не видел так далеко. Слово Анри Кристофа претворилось в камень и не звучало более в мире живых. От единственного в своем роде монарха остался только палец, он хранился в далеком Риме, плавал в хлебном вине, налитом в сосудец горного хрусталя. И, следуя добросовестно примеру супруга, королева Мария Луиза распорядилась в завещании, чтобы после смерти ей отсекли правую ступню и, положив в спирт, хранили бы оную в Пизе, в часовне капуцинов, возведенной ее благочестивыми щедротами; завещание же она составила после того, как вместе с дочерьми побывала на водах в Карлсбаде. Как ни ломал себе голову Ти Ноэль, он не мог ничего измыслить, дабы выручить своих подданных, обреченных гнуть спину под бичом новых господ. Отчаяние охватывало старика, ибо цепи, словно лианы, непрерывно давали побеги, железа непрерывно множились, беды следовали за бедами, и слабые духом, усматривая в том доказательства тщеты всякого мятежа, смирялись со своей участью. Ти Ноэль побаивался, что его тоже могут заставить работать на полях, невзирая на его годы. И тут ему снова вспомнился Макандаль. Раз человеческое обличье навлекает столько невзгод на своего обладателя, лучше уж на время избавиться от него и следить за событиями на Равнине под видом менее заметных тварей. Придя к такому решению, Ти Ноэль диву дался, как легко превратиться в животное, когда на то обладаешь властью. Для пробы он вскарабкался на дерево, пожелал стать птицей – и тотчас стал птицей. Сидя высоко на ветке, он косился на землемеров и расклевывал мякоть плода каймито. На следующий день он пожелал стать ослом – и стал ослом; но ему пришлось во всю прыть улепетывать от какого-то мулата, который собирался стреножить его и выхолостить кухонным ножом. Он сделался было осой, но ему вскорости приелось геометрическое однообразие восковых построек. Когда же он по недомыслию обернулся муравьем, ему пришлось таскать невероятные тяжести по бесконечным дорогам под надзором головастых особей, слишком живо напоминавших ему надсмотрщиков Ленормана де Мези, стражников Кристофа, нынешних мулатов. Случалось, что целая колония насекомых гибла под копытами коня. Не тратя времени попусту, головастые особи снова строили выживших в ряды, снова прокладывали путь, и хлопотливая суета продолжалась своим чередом. Поскольку Ти Ноэль был всего-навсего ряженый и никоим образом не почитал себя обязанным блюсти интересы Вида, он отстал от прочих и спрятался у себя под столом, где в ту ночь нашел прибежище от назойливого мелкого дождика, щедро поливавшего иссушенный солнцем дрок, отчего над полями запахло прелой соломой.
VI. Agnus dei [137]
День обещал быть душным, тучи повисли над самой землей. Утренняя роса еще не просохла на паутине, когда великий гомон, обрушившись с неба, огласил владения Ти Ноэля. Спотыкаясь и падая, по траве ковыляли гуси из тех, что содержались некогда в птичниках Сан-Суси; неграм их мясо не пришлось по вкусу, и потому, грабя дворец, они не тронули гусей, которые переселились в лес, в тростниковые заросли, где жили все это время на полной свободе. Старик был чрезвычайно рад гостям и принял их изъявлениями живейшего восторга; ему ли было не знать, какая это умная и жизнерадостная птица, ведь он имел случай познакомиться с высокими достоинствами гусиного племени, когда мосье Ленорман де Мези предпринял малоуспешную попытку разводить гусей у себя в именье, надеясь, что они приспособятся к новому для них климату. Гуси плохо переносили жару, а потому гусыни неслись раз в два года, откладывая всего по пяти яиц. Но событие это обставлялось сложными обрядами, передававшимися и соблюдавшимися из поколения в поколение. Брачное торжество праздновалось на берегу, где-нибудь на отмели, в присутствии всего клана гусынь и гусаков. Молодой гусь на всю жизнь соединялся со своей подругой и покрывал ее под ликующее гоготание сородичей, которые освящали брак обрядовыми танцами, кружась, притоптывая и поводя шеей. Затем весь клан приступал к сооружению гнезда. Пока наседка сидела на яйцах, ее охраняли гусаки, и они были настороже постоянно, даже ночью, когда прятали круглый глаз под крылом. Если неуклюжим гусятам в желтом пуху грозила опасность, самый старый гусак защищал их грудью и клювом, без колебаний нападая на овчарку, на всадника, на повозку. Гуси были народ основательный, склонный к порядку, рассудительный; форма их бытия исключала возможность порабощения одних представителей племени другими. Принцип власти, олицетворяемый вожаком, был необходим лишь для поддержания порядка внутри клана, и в этом отношении власть вожака была того же свойства, что власть царька или старейшины в древних африканских общинах. От прежних опрометчивых превращений Ти Ноэлю было мало проку, а потому он воспользовался своим сверхъестественным даром, дабы превратиться в гуся и стать членом птичьего племени, поселившегося в его владениях.
Но когда он пожелал занять свое место в клане, на него угрожающе нацелились высокомерно вытянутые шеи и клювы с твердыми зубцами по краям. Его не подпустили к общему выпасу, и белая стена из встопорщенных перьев отгородила от него равнодушных самок. Тогда Ти Ноэль попробовал стушеваться, не докучать своим обществом, поддакивать прочим. В ответ гуси презрительно пожимали крыльями. Он пытался снискать расположение гусынь, показав им известное ему одному местечко, где рос кресс с удивительно нежными корешками, но труды его пропали даром. Серые хвосты досадливо подергивались, желтые глаза смотрели с надменно недоверчивым выражением, которое повторяли, казалось, пятнышки глазков у затылка. Клан предстал перед Ти Ноэлем в виде некой общины избранных, отвергавшей всех чужаков без изъятия. Великий Гусак из Сан-Суси никогда не снизошел бы до каких бы то ни было сношений с Великим Гусаком из Дондона. Если бы они столкнулись друг с другом, разразилась бы война. И тут Ти Ноэль понял, что, домогайся он годы и годы, ему не удастся приобщиться ни к обязанностям, возлагаемым на членов клана, ни к его обрядам. Ему недвусмысленно дали понять: дабы уповать на равенство всех гусей меж собою, мало быть просто гусем. Никто из гусей общины не плясал и не пел у него на свадьбе. Никто из ныне живущих не был свидетелем его появления на свет. Он не мог предъявить хоть сколько-нибудь убедительной родословной, а перед ним были представители четырех поколений с безупречно чистой кровью. Словом, он был метек [138].
И тогда Ти Ноэль смутно осознал, что презрение гусей было ему карою за малодушие. Ведь если Макандаль долгие годы жил в образе разных животных, то лишь ради того, чтобы сослужить службу людям, не ради того, чтобы спастись из их мира бегством. И вот, вновь обретя обличье и долю человека, Ти Ноэль достиг высшего прозрения. За время единого содрогания прожил он главные часы своей жизни и вновь увидел героев, что возвестили ему силу и мощь его далеких африканских предков и поселили в нем веру в грядущее, ростки которого они провидели. Он ощутил себя таким древним, словно прожил века и века. Вселенская усталость грузом целой планеты с горами и скалами легла ему на плечи, утратившие былую силу в непрестанных трудах, мятежах и муках. Ти Ноэль расточил наследство, что досталось ему, и все же, дойдя до предела нищеты, он оставлял людям все вверенное ему достояние в целости и сохранности. Лишь плоть его была подвластна времени. И теперь он понимал, что человеку не дано знать, ради кого страдает он и надеется. Он страдает, и надеется, и трудится ради людей, которых никогда не узнает, а они, в свой черед, будут страдать, и надеяться, и трудиться ради других людей, которые тоже не будут счастливы, ибо человек никогда не удовлетворится долей счастья, ему отпущенной, и всегда жаждет большего. Но в том и состоит величие человека, что он стремится улучшить сущее. Что он возлагает на себя бремя Деяний. В Царстве небесном человеку нет причины искать величия, ибо там всё – вечная иерархия, непостижимая в простоте своей, и нет там предела бытию, и нет нужды в самопожертвовании, а есть лишь отдохновение и услады. И потому человек, изнуренный бедами и Деяниями, прекрасный в нищете своей, не утративший способности любить среди мук своих, может обрести свое величие во всей мере и полноте его лишь в Царстве земном.
Ти Ноэль взгромоздился на свой стол, попирая задубелыми ступнями узоры маркетри. В той стороне, где был Кап, небо потемнело, словно его заволокли дымы пожаров, как в ту ночь, когда запели все раковины на горе и по побережью. Старик возвестил войну новым господам и повелел своим подданным идти в бой на мулатов, самочинно присвоивших власть и творящих беззаконные дела. В то же мгновение могучий ветер, рожденный над зелеными водами Океана, неистово взвыл и, протиснувшись сквозь долину Дондон, нагрянул на Северную равнину. И взревели в ответ жертвенные быки на Епископской Митре, и закружились в воздухе штофное кресло, тома энциклопедии, музыкальная шкатулка, кукла-пастушка, рыба-луна, и рухнули последние развалины бывшей усадьбы. Все деревья полегли кронами на юг, а корневища их обнажились. И всю ночь напролет море, дождем обрушившееся на землю, хлестало отроги гор, оставляя на них соленый след.
И с той поры никто ничего не знал о дальнейшей участи Ти Ноэля и его зеленого камзола с нежно-розовыми кружевными манжетами; знал о том разве что большой кондор, птица, живущая чужой смертью; раскинув намокшие крылья, дожидался он солнца, подобный кресту из перьев, а потом очертания креста сместились, кондор взмыл в небо и, вытянувшись в черную черту, исчез в чащах Буа-Кеман.
Каракас, 16 марта 1948 г.





