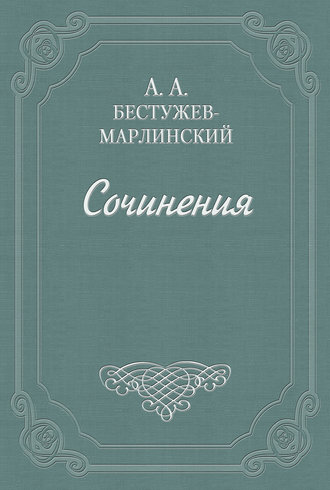
Александр Бестужев-Марлинский
Статьи
«Клятва при гробе господнем. Русская быль XV века». Сочинения Н. Полевого. М., 1832[160]
La critique, dans les epoques de transition, tient lieu fort bien de tout ce qui n'est plus, ce qui n'est pas encore. La critique alors, c'est tout le poeme, c'est tout le drame, c'est toute la comedie, tout le theatre, c'est tout ce qui occupe les esprits; c'est la critique qui passionne et qui amuse; c'est elle qui eclaire et qui brule, c'est elle qui fait vivre et qui tue…[161][162]
Jules Janin
Знать, в добрый час благословил нас Ф. В. Булгарин своими романами. По дорожке, проторенной его «Самозванцем», кинулись дюжины писателей наперегонку, будто соревнуя конским ристаниям[163], появившимся на Руси в одно время с романизмом. Москва и Петербург пошли стена на стену. Перекрестный огонь загорелся из всех книжных лавок, и вот роман за романом полетели в голову доброго русского народа, которому, бог ведает с чего, припала смертная охота к гражданской печати, к своему родному, доморощенному. И то сказать: французский суп приелся ему с 1812 года, немецкий бутерброд под туманом пришел вовсе не по желудку, в английском ростбифе, говорит он, чересчур много крови да перцу, даже ячменный хлеб Вальтера Скотта набил оскомину, – одним словом, переводы со всех возможных языков падоели землякам пуще ненастного лета. Стихотворцы, правда, не переставали стрекотать во всех углах, но стихов никто не стал слушать, когда все стали их писать.
Наконец рассеянный ропот слился в общий крик! «Прозы, прозы! Воды, простой воды!»
На святой Руси по сочинителей не клич кликать: стоит крякнуть да денежкой брякнуть, так набежит, наползет их полторы тьмы с потемками. Так и сталось. Чернильные тучи взошли от поля и от моря: закричали гуси, ощипанные без милосердия, и запищали гусиные перья со всеусердием. Прежние наши романисты, забытой памяти, Федор Эмин[164], Нарежный, Марья Извекова[165], Александр Измайлов, скромненько начинали с какого-нибудь «Никанора, несчастного дворянина» [166], с «Евгения, или Пагубные следствия дурного воспитания» [167], с русского Жилблаза[168], который не чуждался ни чарки, ни палки. Тогда вороны не летали в хоромы!.. Добрые, простые времена! Но мы нашли, что простота хуже воровства. Острые локти наши, которые тоже любят простор, проглянули из тесных рукавов Митрофанушкина кафтана: иной бы сказал, что у нас выросли крылья, – так бойко начали мы метаться вдаль и в воздух. История сделалась страстью Европы, и мы сунули нос в историю; а русский ни с мечом, ни с калачом шутить не любит. Подавай ему героя охвата в три, ростом с Ивана Великого и с таким славным именем, что натощак и не выговорить. Искромсали Карамзина в лоскутки; доскреблись и до архивной пыли; обобрали кругом изустное предание; не завалялась даже за печкой никакая сказка, ни присказка. Мало нам истории, принялись мы и за мораль. «Нравоописательных ли, нравственно ли сатирических, сатирико-исторических ли романов? Милости просим! Кто купит?» О, наверно уж не я! В осьмую долю листа, в восьмнадцатую долю смысла, хоть торчковую мостовую мости. И надобно сказать, что все они с отличным поведеньем: порокам у них нет повадки; колют не в бровь, а прямо в глаз, не то что у иностранцев: на щипок нравоучения не возьмешь… У нас, батюшка, его не продают будто краденое из-под огонь; у нас оно облуплено словно луковка: кушай да локтем слезы вытирай. А уж про склад и говорить нечего! В полдюжины лет нажили мы не одну дюжину романов, подснежных, подовых романов, романов, в которых есть и русский квас и русский хмель; есть прибаутки и пословицы, от которых не отказался бы ни один десятский; есть и лубочные картинки нашего быта, раскрашенные матушкой грязью; есть в них все, кроме русского духа, все, кроме русского народа! Со всем тем почтеннейшая толпа земляков моих верит, что она покупает мумию русской старины во французской обвертке, с готическими виньетками, с картинками, резанными в Вене; верит, что эти романы – ее предки или современники; верит с тупоумием старика или с простоумием ребенка и целуется с этими куклами-самоделками; покупает не накупится, читает не нахвалится. Книгопродавцы, из бельэтажа собственного дома, поглядывают на бульвар и напевают: «Велик бог Израилев!» Добрейшие люди! А г. г. сочинители, возвратись с какого-нибудь жирного новоселья, и гордо развязывая гордиевы узлы густо накрахмаленного галстуха, и с улыбкою трепая свою шавку, говорят ей: «Гафиз, друг мой, знаешь ли ты, что я русский Вальтер Скотт!» Заметьте, я сказал: накрахмаленный галетух; это недаром, м. м. г. г.! Это предполагает чистый галстух; а чистый галстух предполагает, что владелец его посещает хорошее общество, а хорошее общество требует прежде блестящих сапогов, чем блестящего дарования, следственно сочинитель наш должен ездить, по крайней мере в гости, в экипаже. Надеюсь, вы теперь меня понимаете! На моей еще памяти иные истинные таланты носили черные галстухи и в праздник; ходили, увы! даже не в резинных галошах по слякоти и – что таить греха? – кланялись в пояс пустым каретам. Слава богу, слава нашему времени, скажу и я вместе с вами, которое за чернила платит шампанским и обращает в ассигнации листки тетрадей. Я не буду неблагодарен ни к правительству, которое ободряет и ограждает умственные труды, ни к публике, начинающей ценить нераздельно с сочинением и сочинителя; но я не буду и льстить нашим романописцам. Подумав беспристрастно, я скажу свое мнение откровенно; по крайней мере ручаюсь за последнее. Я думаю, что, несмотря на многочисленность наших романов, несмотря на запрос на романы, едва ль не превышающий готовность составлять их, несмотря на ободрение властей, мы бедны, едва ль не нищи оригинальными произведениями сего рода.
Отчего это?
Признаться, на такой вопрос так же трудно отвечать, как на тот, почему у Касьяна черные глаза, когда у матери и отца они голубые? или почему огурец зелен, а смородина красна, хоть они растут на одном и том же солнце? На нет и суда нет; та беда, что и на есть не подберем мы причины: зачем оно так, а не иначе?
Но пересеем повнимательнее то, о чем говорил я шутя, и, быть может, мы найдем разгадку если не посредственности наших романов исторических, то успеху исторических романов. В этот раз я не трону даже мягким концом пера нравственно-сатирических романов: пускай себе шляются по сельским ярмаркам или почиют в мпре и в пыли. В утешение г-д сочинителей их, признаюсь, что прочесть иных не имел я случая, других не стало терпения дочесть, а многих, очень многих я вовсе читать но стану, хотя бы за этот подвиг избрали меня в почетные члены Сен-Домингской академии. Это дело решенное.
Мы живем в веке романтизма.
Есть люди, есть куча людей, которые воображают, что романтизм в отношении к читателям мода, в отношении к сочинителям причуда, а вовсе не потребность века, не жажда ума народного, не зов души человеческой. По их мнению, он износится и забудется, как перстеньки с хлориновой известью от холеры, будет брошен, как ленты a la giraffe[169], как перчатки a la Rossini[170] иль d'une altra bestia;[171] что, наконец, он минует, пройдет. Другие простирают староверство до неверия, до безусловного отрицания бытия романтизма. «Все, что есть, то было; все, что было, то будет; ничто не ново под луною!» Согласен!.. Луна есть светило ночное, а ночью все кошки серы; но, ради бога, господа, осмотритесь хорошенько: нет ли чего нового под солнцем? Знаете ли вы, м. м. г. г., что утверждать подобные вещи в наше время есть только героизм глупости – ничего более. Может ли сомнение в истине уничтожить самую истину, и неужели романтизм, заключенный в природе человека и столь резко проявленный на самом деле, перестанет быть, оттого что его читают не понимая или пишут о нем не думая?
Мы живем в веке романтизма, сказал я: это во-первых. Мы живем в веке историческом; потом в веке историческом по превосходству. История была всегда, свершалась всегда. Но она ходила сперва неслышно, будто кошка, подкрадывалась невзначай, как тать. Она буянила и прежде, разбивала царства, ничтожила народы, бросала героев в прах, выводила в князи из грязи; но народы, после тяжкого похмелья, забывали вчерашние кровавые попойки, и скоро история оборачивалась сказкою. Теперь иное. Теперь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно; она проницает в нас всеми чувствами. Она толкает вас локтями на прогулке, втирается между вами и дамой вашей в котильон. «Барин, барин! – кричит вам гостинодворский сиделец, – купите шапку-эриванку». «Не прикажете ли скроить вам сюртук по-варшавски?» – спрашивает портной. Скачет лошадь – это Веллингтон[172]. Взглядываете на вывеску – Кутузов манит вас в гостиницу, возбуждая вместе народную гордость и аппетит. Берете щепотку табаку – он куплен с молотка после Карла X. Запечатываете письмо – сургуч императора Франца. Вонзаете вилку в сладкий пирог и – его имя Наполеон!.. Дайте гривну, и вам покажут за гривну злосчастие веков, Клитемнестру[173] и Шенье[174], убийство Генриха IV и Ватерлоо, Березину и Св. Елену, потоп петербургский и землетрясение Лиссабона – и что я знаю!.. Разменяйте белую бумажку[175], и вы будете кушать славу, слушать славу, курить славу, утираться славой, топтать ее подошвами. Да-с, история теперь превращается во все, что вам угодно, хотя бы вам было это вовсе не угодно. Она верна, как Обриева собака[176]; она воровка, как сорока-воровка; она смела, как русский солдат; она бесстыдна, как блиншща; она точна, как Брегетовы часы[177]; она причудлива, как знатная барыня. Она то герой, то скоморох; она Нибур[178] и Видок через строчку, она весь народ, она история, наша история, созданная нами, для нас живущая. Мы обвенчались с ней волей и неволею, и нет развода. История – половина наша, во всей тяжести этого слова.
Вот ключ двойственного направления современной словесности: романтическо-исторического. Надобно сказать однажды навсегда, что под именем романтизма разумею я стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах. А потому я считаю его ровесником душе человеческой… А потому я думаю, что по духу и сущности есть только две литературы: это литература до христианства и литература со времен христианства. Я назвал бы первую литературой судьбы, вторую – литературой воли. В первой преобладают чувства и вещественные образы; во второй царствует душа, побеждают мысли. Первая – лобное место, где рок – палач, человек – жертва; вторая – поле битвы, на коем сражаются страсти с волею, над коим порой мелькает тень руки провидения. Ничтожные случайности дали древней литературе имя классической, а новой имя романтической, столь же справедливо, как Новый Свет окрестили Америкой, хотя открыл его Коломб[179]. Мы отбросим в сторону имена, мы, которые видели столько полновесных имен, придавивших тщедушных своих владельцев, как гробовая плита, мы, которые слышали столько простонародных имен, ставшихлторжествешюю пееншо народов! Какое нам дело, что слепца Омира и щеголя Вергилия засадили в классах под розгу Аристотеля; какое нам дело, что романские трубадуры, таскаясь по свету, разнесли повсюду свои сказки и припевы; какое нам дело: классы ли, Романия ли дали имя двум словесностям!.. Нам нужен конь, а не попона.
Возьмемся же за первобытную словесность, начнем с яиц Леды[180], – и почему в самом деле не так? Разве эту фигуру не считают началом мира и человека? Я надеюсь, что вы читали Лукреция[181] и Окена[182]! Я надеюсь, что вы уже держали экзамен в асессоры!
Не помню, кто первый сказал, что первобытная поэзия всех народов была гимн. По крайней мере это мнение приняло чекан Виктора Гюго[183]. Мнение, правда, блестящее, но ни на чем ие основанное. «Человек, изумленный, пораженный чудесами природы, великолепием мира, необходимо должен был славить творца или творение. Удивление его излилось гармоническою песнею: то был гимн!» Итак, человек пел по нотам прежде чем говорил; итак, первая песня его была благодарность или торжество! Хорошо сказапо! Жаль только, что этот первенец-певчий вовсе пе сходен ни с вероятностию, ни с сущностию. Первенцы мира слишком озабочены были сначала тем, чтобы себе заверить бедное существование, ночь за день, день за ночь! Лишенные всякой защиты и оружия от природы, они должны были сражаться с непогодами, с землею, со зверями, и когда развернулось в них немножко ума, привычка наверно убила уже удивление к чудесам природы. Торжествовать ему было еще менее причины – ему, бедняге, пущенному в лес без шерсти от слепней, от холода, без клыков слона, без когтей тигра, без глаз рыси, чтобы увидеть издали добычу, без крыльев орла, чтобы достичь ее. Очень сомневаюсь я, чтобы ему приходило на ум петь соловьем, умирая с голода. Что же касается до гимна благодарности, то мне хочется и плакать и смеяться: плакать за праотцев, смеяться с г. г. систематиками, которые порой мистифируют нас себе на потеху. Вы забыли, конечно, что тогда не было еще ни тг. Буту, ни Бретигама, чтобы одеть и обуть странника, не было трехэтажных гостиниц для ночлега, не было зонтиков и отводов, не было двухствольных ружьев с пистонами, не было карет на рессорах. Греки, правда, проскакавши в колесницах олимпийских, распевали гимны, но слава заменяла им рессоры. Зачем же, скажите мие, не поете их вы, баловни XIX-го века, вы, у которых есть и слава и рессоры? Скажите же или пропойте мне это! Чудной парод! Хотят заставить петь гимны дикаря, который учился говорить у шакалов, и молчат сами, слышав столько раз мамзель Зонтаг[184]! Притом я не знаю еще, признаете ли вы Индию люлькою человеческого рода (это мнение убаюкало многих) или с Ласепедом[185] полагаете четыре первобытные племени; или наконец, помирив, схватив за волосы обе эти системы (миротворство – точка сумасшествия нашего времени), вы думаете, что Атлас, Гиммалаия, Кавказ и Кордильеры, как добрые кони на хребтах своих, развезли из Индии племя человеков, что полутигр готтентот, полуорел черкес и полусемга лопарь родные братья? Но пусть наша первая, наша общая отчизна Индия; съездимте ж в Индию волей и неволей; видно, не миновать нам Индии. Г-а физиологи могут там изучить холеру в оригинале, г-а археологи – увериться, что (по зодчеству своему) церковь Василия Блаженного родная внучка такому-то или такому-то пагоду в Балбеке, а г-а поэты – доучиться санскритскому языку, который похож на русский словно две капли чернил, языку, на котором они сделали такие блестящие попытки. Правда, что мы пе понимаем их, по вольно ж нам не знать по-санскритскп. Прогуляемся ж в Индию, г-а, хоть для того, чтоб узнать, стоит ли там петь гимны! Пароход «Джон Булль» [186] уж давно курится у набережной… Слышите ль, звонят в третий раз!.. Едем.
И вот мы плывем не только вверх по течению Гапгеса, но и вверх по течению веков. Покуда не бросили еще сходня на берег, я скажу вам, что, по-моему, первобытная поэзия пародов непременно зависит от климата. Так у кафра, палимого зноем, и у чукчи, дрожащего от мороза, у обоих, которым голодная смерть грозит ежедневно, первая поэзия, как первая религия, есть заклинание. Он через колдуна, через шамана старается умилостивить злых духов или сковать пх клятвами. Напротив, у скандинава, у кавказского горца, у араба, людей столько же гордых, как бедных, столько же свободных, как бесстрашпых, у коих все зависит от самого себя, которые ничего в мире не знают выше собственных сил и отваги, поэзия есть песня самохваления. Прочтите вы саги, Оссиана, Моаллаки[187]; послушайте песен аварца или черкеса: это вечная вариация местоимений я или мы; а «мы» значило у них мой род, моя деревня, моя дружнна. Грек уже горд народною славою: у него отечество не одно свое селепие; силы его в равновесии с силами природы; небо у него самое благорастворепное, и он, вдохновенный им, поет гимн – песню благодарности богам, песню торжества собственного. Но Египет, сожженный, закопченный солнцем Египет, который произведен и живет только милостыней Нила, или эта Индия – оба края столь богатые драгоценностями и заразами всех родов, где жизнь качается на острие гибели… Скажите, мог ли там человек, запуганный природою, начать поэзию песнею благодарности или торжества? Конечно, нет. Скорей всего она была молитва, ибо индиец боготворит все и всего хочет, ибо все манит его, и хочет с жадпостию, ибо завтра для него существует. В Индии природа – мать и мачеха вместе для младенца-человека. Молоко великанских ее сосцоз смешано с отравою; ее мед опьяняет, как вино romodendron;[188] благоухание цветов ее убивает мгновенно, как manzenilla;[189] она душит человека то избытком сил, то избытком даров своих. Он чувствует пред пей свое бессилие, свою ничтожность и ползает перед судьбою, видя суетность расчетов и залогов на будущее; он приносит жертвы Ариману[190], злому началу, наравне с жизнедавцем Сивою[191]; он молится вещественным силам природы, нередко изуродованным через нелепый символизм отвлеченных качеств ее. Вот почему в многобожной Индии все носит на себе отпечаток религиозный, все, от песен до политического быта, ибо поэзия и вера, вера и власть там одно. Свидетели: «Магабхарата» и «Рамайяна» [192], две огромные поэмы индийцев. Что такое они, как не последняя битва падшей веры и государства Магаде[193] с победительною верою и властию будды? Это страшные грезы страшной действительности; это смешение самых чистых, первозданных чувств с самыми неестественными вымыслами; это благоуханная вязь цветов, перевитая жемчугом и алмазами, плавающая в потоке крови. Там убедитесь вы, что индиец может только роскошно мечтать, а не мыслить. Его герои – звери или волшебники; его боги – чудовища, его вера – угроза. Со всем тем, как ни грубы его верования, как ни бездвижны его касты, как ни причудливы его воображения, вы легко заметите в них попытку души вырваться из тесных цепей тела, из-под гнета существенности, из плена природы и нагуляться в новом, самозданном мире, отведать иной жизни, пожить с фантастическими существами. Это романтизм по инстинкту, не по выбору.
Но для чего нам распространяться о восточной словесности? Она неизвестна была древним, она чуть-чуть известна нам и потому не имела никакого влияния ни на классическую, ни на романтическую словесность. Заметим только, что фатализм, злобный, неумолимый фатализм Индии, смягчается у персов, поклонников огня, до мысли о благом промысле. Он молится уже не идолу, но недосягаемому солнцу, живителю мира; он бездействует, но уж более из лени, чем из безнадежности. Увидим, как яростен и силен этот фатализм, ринутый из своего покоя огнем Магоммеда, когда он дал обет арабам своим: мечом и Кураном завоевать свет и рай. Между тем как поэтическая религия ислама, подобно лаве, растекается по Востоку и зажигает его, сладкозвучный Фердуси плавит в радугу предания Персии и связывает ею истину с вымыслами. Говорю о «Шах-наме» (повесть царей), для которой ханжа персиянин до сих пор забывает свои четки, низкий корыстолюбец персиянин останавливает на воздухе руку, не досчитав своих туменов, для которой сластолюбивый лентяй персиянин открывает отяжелевшие от опиума веки, покидает незапертым гарем и спешит послушать «Шах-наме» от площадного певца. Он слушает, и улыбается, и гордо гладит бороду. Мил гуляка Гафиз, трогателен мудрец Саади, но Фердуси – о, это водопад Державина! Сколько раз уносился я одной музыкой стихов его, в то время, когда какой-нибудь мулла морозил мысль бессмысленным переводом!
И вот мы в Греции, в Греции, стороне богов, подобных людям, в стране богоподобных мужей! Я уверен, что этот salto mortale[194] не удивит вас: разве не учились вы прыгать в манеже? Что касается до меня, вы сами видите, что я вольтижирую на коньке своем не хуже Франкони-сына.[195]
Вторая, несомненная степень поэзии есть эпопея, то есть народные предания о старине, одетые в шумиху басни. Да, история всех племен всегда начинается баснею, точно так же, как история всех народов должна заключиться нагою летописью, если верить, что род человеков совершенствуется. При истоке вы везде находите поэму в истории, равно как историю в сагах. Новички народы, точь-в-точь дворяне из разночинцев, всегда хотят облагородить своих предков, закрыть пестрыми гербами прежнюю вывеску, заставить расти свой родословный пень-гнилушку из облаков. Родоначальники их вечно или герои, или боги. Афинец ведет род свой от Феба[196]; камчадал считает своим праотцем кита – это живительное солнцо бытия его. Кроме того, первобытные пароды младенчески верят всему, что льстит их самолюбию. Любо им, чтобы их боги ссорились меж собой за их запечные ссоры, чтобы они якшались с ними запанибрата; без чуда нельзя было поколотить их ни в одной схватке, нельзя было ступить шагу без содействия чародеев, ибо вера в чудесное превращала для них сверхъестественное в естественное, творила невозможное обыкновенным.
Туманы и вдали увеличивают предметы, дают им затейливые образы. То же самое и с историческими истинами сквозь пыльный туман древности, между тем как нравы и климаты дают обликам сих преданий разные характеры.
Грецию избрало, кажется, провидение проявить мысль, до какой высоты изящества доступен был древний мир, средою коего она была. Как ранний морской цветок, она возникла из океана невежества, быстро созрела семенами всего прекрасного, в науках, в художествах, в нравственности, в политике, в поэзии всего этого… бросила свое благоухание и семена ветрам – и увяла, увяла прежде, чем кровавые волны поглотили ее. Светлое небо Эллады отражалось не только в водах Эгейского моря, но и в душах, в правах, гармоническом языке греков. Восточная поэзия – чувственность и грёза, греческая – вся чувство верное, пылкое чувство, которое пленялось родною, величественною природою, которое рвалось из груди на простор, точно так же как сам грек всю жизнь проводил на воздухе, на раздолье. Выходец из Азии, он принес в своей котомке лишь самые легкие поверья и сказки детства; он бросил на месте прежних сторуких крокоднлоглавых, птицеглавых, треглавых идолов; он забыл дорогою Аримана, он научился в скитаньях своих своевольничать; он окреп, он стал деятелен, он стал забияка, он стал крикун, он стал настоящим греком. И право, если б между разгульными богами Олимпа не замешалась грозная 'AN'AFKH – Судьба, от которой сами боги трепетали как осиновый лист, вы бы не узнали в гинецее[197] – гарема, в Пирее – базара, в Алкивиаде[198] – потомка какого-нибудь из героев «Магабхараты». Главное в том, что душа грека изливалась вся наружу: он жаждал битв и песен, он пел природу и битвы, и выражение их у грека было в совершенном соответствии с предметом; выражение его отличалось особенною гармоническою точностшо и, так сказать, отражаемостию, зеркальностию. Вот отчего вся поэзия греческая, в стихах ли, в мраморе ли, в меди ли она проявлялась, ознаменована недоступною для нас и пленительною для всех красотою. Никто лучше не выражал чувственной природы, ибо нигде нет природы лучше греческой. Но не один голый перевод с природы, не слепое, безжизненное подражание жизни находим мы в поэзии греков. В произведениях искусств мы находим идеал вещественно-прекрасного, то есть тысячи рассеянных красот, гениально слитых воедино, красот, может никогда не виданных, но угаданных душою. В драмах, в одах сверкают уже мысли, заметно уже стремление к высокой, но неясной цели. Впоследствии философы высказали то, о чем намекали поэты. Романтизм оперялся понемногу; однако сколько веков протекло между Омиром и Платоном.[199]
Омир!?…
Когда вы произносите это священное, освященное веками имя, кажется, вся Эллада восстает из праха огромным призраком!.. Кажется, видишь гиганта Атласа, который выносит на плечах своих весь древний мир из ночи забвения. Скажите, чего нет в «Илиаде» и «Одиссее»? «Феогония» [200], родословие всей Греции, землеописание полумира, история, анатомия, все, что знал в те поры гуртом род человеческий, все там, и это все – самая ничтожная, незаметная частица в сравнении с величием поэзии, с роскошью образов! Никто не знал, где качалась колыбель этого гения; никто не знает, где его могила. Он явился в мир, исчез из мира и до того изумил всех, что начали не без причины сомневаться в его существовании, по крайней мере в целости поэм, ему приписанных, трудов, едва ль доступных одному человеку.
Пускай, впрочем, будет Омир загадкою, заданною нам древностию; пускай имя его есть собирательное имя всех поэтов, до него живших; пускай «Илиада» есть перечень тысячи рапсодий, сшитых искусною рукою. Дело в том, что под его именем известные эпопеи стали типом, образцом тысячи других эпопей, начиная с «Энеиды» [201] до какой-то русской иды, или ады, или оиды, в которой затеряны следующие стихи:
Меж тем как Феодор звонил в колокола (Его любимая охота в том была).
Я думаю, каждый народ имел свои эпопеи, в каком бы лице они ни проявлялись: но имел в возраст юношества, не иначе. Юность все чувствует и всему верит; юность простодушна, как ребенок, и смела, как муж. Вот почему так неудачпы были все попытки во времена разума создать или повторить народную эпопею. Большого промаха дал Торквато[202], замешав языческих богов в свою великолепную поэму, поэму христианскую в полной мере; но еще забавнее Вольтер, заставивший действовать отвлеченные понятия в лицах, своей надутой «Ганриаде», этой выношенной до нитки аллегории, которой рукоплескал XVII 1-й век до мозолей, зевая под шляпою, и над которою мы даже не зеваем, оттого что спим.
Видя, что народ не верит уже сказкам, эпопея перекидывается в драму. Она отрубает от истории какое-нибудь частное происшествие и переливает его в свою огромную форму; выхватывает из толпы царей несколько имен, отмеченных природою или молвою, и путает их в невидимые цепи судьбы, бросает им молнию роковых страстей в грудь, растит эти страсти до великанских размеров, заставляет совершать страшные злодейства и потом, неумолимый судия, она бичует преступника змеями фурий, рассекает его огненным мечом своим пополам и показывает его сердце наголо зрителям, безмолвным от ужаса, – сердце, на котором вы видите еще зубы совести, которое плачет кровью, которое трепещется от мучений. Такова была трагедия древних, трагедия Эсхила, Софокла и Эврипида. Оттого ли, что она для большей свободы избирала героев, уже удаленных во мрак старины, или покорна была влиянию наружности, только всегда она выводит на сцену царствования злосчастия, как будто человек не имел в себе довольно величия. Не так понимали природу Шекспир, Шиллер, Виктор Гюго, – и менее ль занимателен их падший ангел-человек, их человек-мещанин[203], родня богов – Атридов?[204]
Напротив, комедия принадлежала собственно народу, ибо она изображала народ в домашнем быту, нараспашку, народ вольный однако ж, народ царя наизнанку, народ, который, зашивая дыры на тунике, толковал, как разбить Ксеркса[205] или Югурту[206]. Оттого комедия у греков и римлян имела всегда политическую цель: она колола смеша, она была прихожею Пирея[207] или Форума, битвой застрельщиков, в которой партии пытали или добивали друг друга. Мы видели и увидим, что новая трагедия, или, лучше сказать, новая драма, которая, как жизнь наша, смеется и плачет на одном часу, вырывает своим деревянным кинжалом из могил еще неостылые трупы героев, не дожидаясь, чтобы давность увлекла их на исторический выстрел: она судит их у гроба, подобно египтянам, или, что и того злее, терзает их заживо, будто бы она, как орел, не может есть ничего, кроме животрепящего мяса. Да, рано застает пас потомство, жестокое, неумолимое потомство! Застает врасплох, подслушивает или угадывает нашу исповедь – и не дает разрешения; бросает горсть земли в очи покойника – и не молвит обычного мир с тобою! Нет… оно шевелит, оно вытаскивает, как шакал, на свет кости, бросает на ветер пепел, клеймит самую гробницу насмешкой или презрением или с проклятием ломает ее вдребезги!
Наконец за драмою возникает роман и потом идет об руку с драмою – роман, который есть не что иное, как поэма и драма, лиризм и философия и вся поэзия в тысяче граней своих, весь свой век на обе корки. Древние не знали романа, ибо роман есть разложение души, история сердца, а им некогда было заниматься подобным анализом; они так были заняты физическою и политическою деятельностию, что нравственные отвлеченности мало имели у них места; кроме того, где, скажите, они являлись развитые не диссертациями, а приключениями? Жизнь была сама по себе, а ученость сама по себе… Я по крайней мере не знаю ни одного романа, завещанного нам древностию, ни одного, кроме ее историй. Роман, каковы «Гаргантуа» и «Дон-Кихот», – дети нового порядка вещей, наследники средних веков. О нас, мильонщиках в этом отношении, речь впереди.
Между тем важный перелом мира вещественного от мира духовного тихо готовился в Элладе и в Риме, уже источенных пороками… Мраморные боги шатались, но стояли еще; зато их треножники были холодны без жертв, сердца язычников холодны без веры. Давно уже Сократ толковал об единстве бога[208] – и выпил цикуту, осужденный за безбожие. Но эта чаша смерти стиха заздравной чашей нового учения, которое проникло даже в сердца пританов – убийц Сократа. Школа неоплатоников[209] разрасталась, разливалась далее и далее, – она была для земли, раздавленной деспотизмом, прелюдией небесною! Души, томимые пустотою, чего-то ждали, чего-то жаждали, – и свершилось…
Древний мир пал.
Но он пал сражаясь, пал после долгой битвы, и стрелы его глубоко остались в теле нового ратоборца. Долго-долго потом, в поэзии, в художествах, в обычаях, отзывались поверья язычества, равно готического и эллинского. У бессмертного Данте Вергилий, come persona accorta[210], провожает поэта по всем закоулкам христианского ада. В католических соборах кариатиды-сатиры, кряхтя, поддерживают хоры или корчатся от святой воды в украшениях кропильницы. Языческие обряды остались доселе не только в играх народных, но слились иные и с обрядами веры. Зачем ходить далеко: вспомним постриги и поминки, вспомним игрища Ярилы и колядования о святках, семик и пр., и пр., и пр. Я уж не говорю, или я еще не говорю, о нашествии на Русь грецкого вкуса, который заставил нашего Ивана Горюна заиграть на свирелке Дафниса и Меналка[211], наслал в наши песенники купидонов и нимф и расплодил по всем городам пародии римских и греческих зданий. Приторный вкус, несообразный ни с характером, ни с климатом нашим.







