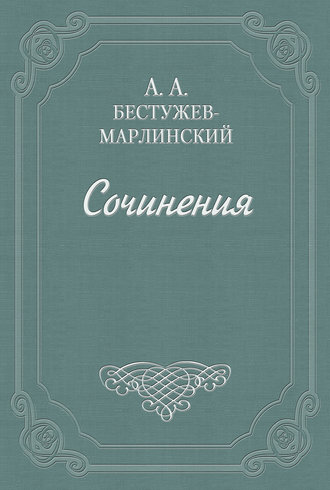
Александр Бестужев-Марлинский
Статьи
Мало вам и этого – пред вами любовь предков наших. Как ни изношены у нас сердца, но запрос на любовь еще велик… и посмейтесь, пожалуйста, тому грамотею в глаза, который скажет вам, что в старину мужчины видели женщин только за налоем, что про любовь тогда не было и в помине. Видно, эти господа никогда не заглядывали в сердце человеческое; забыли они, что любовь есть не понятие, а чувство, свойственное всем векам и народам. Спору нет, она в старину была не так жеманна и мечтательна, но тем не менее нежна и страстна. Спору нет, предки наши женились через свах, не видя невест; но разве мы не женимся, не глядя на них, из расчетов и для приданого, как всегда бывало; а между тем любовь идет своим чередом. Говорят, знать наша запирала жен и дочерей, особенно со времен татарства; но неужели вы думаете, что замки, и стены, и кинжалы держат любовников даже у мусульман! Сказки! Тем паче у нас, у которых гостеприимный нрав и самая постройка домов тому противятся. Переберите наши песни и сказки, и вы убедитесь в том. Вот вам и вся лестница духовной иерархии, миротворная, редко честолюбивая сверху, невежественная и часто забавная снизу. Клирошане и причетники, бельцы и монастырские крестьяне, все со своим чванством, причудами, правами, в беспрестанном столкновении с мирянами: толпа своеличная даже до нищих, кликуш и юродивых, составлявших непременный штат каждой церкви! Юродивые занимали то же место между судьбой и народом, как шуты между владельцем и народом. Божьи люди эти были облечены неприкосновенности!!); их темные речи принимались за угрозы, за пророчества свыше. Вот вам и самосуд-вече в Новегороде и примерный суд его с присяжными, с объездным и судьями, с поединками, с русскою правдою – «поле», которого до сих пор никто не тронул. Вот вам лобное место пред Кремлем, с его правежем и гостинодворством. Садитесь на лихую тройку и поезжайте по святой Руси: у ворот каждого города старина встретит вас с хлебом и солью, с приветливым словом, напоит вас медом и брагою, смоет, спарит долой все ваши заморские пинтиранья и ударит челом в напутье каким-нибудь преданием, былью, песенкой. До сих пор вы видели только разносчиков, говорили только с извозчиками; теперь увидите бодрый, свежий, разноязычный, разнообразный, судя по областям, народ – народ, который мало изменился со времен Святослава, ибо татары и поляки мало имели дела с простолюдинами. Купцы торговали с ними, бояре ползали перед ними – народ только резался с ними или бегал от них и, заплатив раз в год черную дань сборщику, после не видал его в глаза[322]. В свою очередь он редко видывал и бар своих, всегда собранных около князей или царя, и оттого до сих пор сохранил свою поступь, поговорку, свой обычай, облик, свой оригинальный характер, которого основание – авось, свою безрасчетную предприимчивость, свое простовидное лукавство, свою страсть ко хмелю и к драке, свой язык, столь живописный, богатый, ломкий; словом, это народ, у которого каждое слово завитком и последняя копейка ребром… Но где мне исчислить все девственные ключи, которые таятся доселе в кряже русском! Стоит гению топнуть, и они брызнут, обильны, искролетны. Смешно и указывать ему: бери вот отсюда, сделай то-то; он сам найдет, что ему надобно, он пе пойдет справляться с риторикою или пиитикою… Словесность не наука, словесность искусство, ибо она творит, а не производит; а творчеству, а воображению закон не писан и никогда не напишется. Изящное всегда будет правильно. Вот почему нелепы попытки научить писателей писать; вот почему для словесности полезна лишь одна критика, ибо цель ее не поправлять автора, а приготовить читателя ценить его творение. Она не учит серинеткою[323] соловья петь, не учит молнию летать как бумажный змей, а дергает рассеянного охотника за полу и говорит ему: «Послушай, погляди, как эт, о прекрасно!» Она судит не как судья, по книге, а как присяжный, по совести, положив руку на сердце, и, даже ошибаясь, приучает вас судить прямо. Так и не более скажу я свое мнение о были Н. Полевого; не более, как так. Прочь от меня эта самозваная, щепетильная критика, которая до сих пор пропитывается у нас кавыками и недоглядками, которая с холодом бесчувствия смотрит на изящное и щупает его как евнух, покупающий невольницу на базаре. Была б у нее мягкая кожа, была бы в ней указная мера, а до ума, до души, до выражения лица что ему за дело! Misere[324]! И они хвалятся этим мизером, они выигрывают на него!
Г-н Полевой схватил для своей картины тот момент, когда Русь стала подымать голову из двухвекового рабства. Сквозь туман, но блестит уже над ней звезда единодержавия. Выход в Орду еще платится, но власть сидит уж не на ковре ханов. Удельная гидра еще грызется с царством, но это последние ее попытки. Действие начинается в деревне, невдалеке от Москвы, куда тянутся обозы, спеша к масленице и к свадьбе молодого великого князя Василья Васильевича Темного, который сел на княжение вопреки правам дяди своего Юрия Дмитриевича, уступившего первенство меньшому брату, Василию, но только брату по воле, племяннику по неволе, ибо на Руси искони велось (по праву, не всегда на деле), чтобы престол наследовать братьям, а не детям. Вот узел драмы, хоть ои вяжется и развивается в ней иначе и не вдруг. В избу, в которой расположились обозники, приезжает, под видом купца, крамольный боярин Иоанн. Он бежит из Москвы, обиженный отказом великого князя жениться на его дочери, на которой честолюбивый старик сосватал было его. Выезжая с ночлега, сани его сталкиваются с санями князей Василия Косого и Дмитрия Шемяки, детей Юрия, которые скачут на свадьбу, в гости к великому князю. После ссоры в потемках путники узнают друг друга, и тут-то, вопреки укоров Шемяки, начинается ков обиженного честолюбия в лице Иоанна, обиженного властолюбия в лице Косого. Боярин подстрекает пылкого князя и негодованием и надеждою. У него в кармане важные бумаги, у него в голове умпые советы, у него в груди месть Василию, который обязан престолом лишь его проискам у хана, – и все это он везет с повинною к Юрию, которого заставил недавно вести под уздцы коня отрока-племянника. Они расстаются, один готовый на измену, другой – на мятеж. Шемяка упрекает брата, что он слушает советов крамольника. Тот отвечает, что он обманул его притворным вниманием, что он только выведывал старика.
«– Ты обманул его? Но разве обман не есть уже грех? – говорит Шемяка.
– Отмолюсь! – смеясь отвечал Косой, отряхнув шапку свою. – Пойдем, пора».
Какая резкая черта, и в отношении к лицу Косого, и в отношении к понятиям времени!
В Москве уже подозревают Юрьевичей, и в то время, когда Косой подбивает удалых из князей себе в помощники, дума бояр, в которой хозяйничает мать великого князя, Софья Витовтовна, литвянка родом, безрассудная самовластница духом, решает схватить и заключить в оковы Косого и Шемяку при выходе с брачного пира. Венчанье кончено, новобрачные удалились из-за стола, и хмель, это единственное лето русских, расцвечает все характеры, расплавляет тайны. Нетерпеливая Софья привязывается к Юрьевичам, Косой колет ее не в бровь, а прямо в глаз, намекнув, что Василий незаконный сын ее; она забывается до того, что срывает своими руками с него меч, и укоряет, будто золотой поле его – краденый. Неистовая суматоха эта чуть не переходит в битву. Князья разъезжаются, мятеж вспыхивает. Юрий идет с войском на Москву; двор бежит. И снова племянник выгоняет дядю, и снова хилый, слабодушный старик, опершись о мечи смелых сыновей своих, завладевает Москвою, ссылает племянника на удел. Но в последний раз Кремль распахнулся перед ним гробом. В тот самый день, когда брат его Константин умирает в миру, приняв схиму, умирает и Юрий (оба остальные отрасли Донского), умирает на руках Шемяки. Покорный сын, Шемяка вскрывает духовную отца в совете бояр, в отсутствие брата, но в ней никто не назван великим князем. Великодушный Шемяка провозглашает снова Темного, Косой беснуется, укоряет брата и уезжает искать себе сторонников, чтобы отбить престол у Василия. Шемяка удаляется в удел свой Галич, как бы в довод того, что не искал благодарности, что он исполнил подвиг самоотвержения, уважая права наследства. Заехав в гости к князю Заозерскому, в глушь северных лесов, он влюбляется в дочь его, сватается и едет в Москву звать великого киязя к себе на свадьбу. Но подозрительный, неблагодарный Василий, воображая, что он заодно с Косым, велит схватить его на дороге обманом и заключить в тюрьму; потом вдруг переменяет политику, чтобы вернее погубить легковерного: мирится с ним, улещает его и дает ему пьяный, распутный, непокорный отряд, выживать из Тулы хана Махмета. Униженный, оклеветанный, обвиненный своими подчиненными в измене, Шемяка узнает, что брату его Василию выкололи глаза по приказу Темного, что его самого готовятся схватить для казни… Это опрокидывает его душу: он бежит в Новгород, где вече, всегдашняя подпора изгнанных князей, наряжает ему войско воевать Москву. Тогда испуганный Василий присылает к брату инока Зиновия, чтобы склонить его на примирение, чтоб выпросить у него мир на всей его воле. Убежденный, тронутый им, Шемяка уступает: он не хочет кровопролития и прощает кровную обиду. Тесть и невеста его, доселе пленные в Москве, объемлют его в Новегороде, – там он празднует свою свадьбу и едет в Галич. Были конец.
Вот главные события этой были; но автор понял, что как пи точны будь исторические сцены, они падут бездушны без игры характеров; как ни резки будь характеры, они не тронут читателя, если не оживятся какою-нибудь великою мыслию, – и вдунул в них самую поэтическую. Он обвил пружину действия вкруг таинственной особы гудочника, который является везде, говорит всеми языками, все знает, всех выведывает, всех подстрекает. То он пешеход на дороге, то он паломник в монастыре, то он гудочник и сказочник перед боярами, то почтенный гражданин в Новегороде. Открывается нам из беседы его с архимандритом Симонова монастыря, его прежнего товарища, что он дал обет умирающему князю своему стараться восстановить суздальское княжение и отдать оное детям его. У гроба господня, в Иерусалиме, обрекает он себя страшною клятвою исполнить обет свой. С тех пор клятва становится его жизнию, его судьбою. Пусть двадцать раз разлетаются прахом его замыслы, пусть изменяют ему князья – он неутомим, неуклоним. Он ищет новых действователей, заключает с ними договор восставить Суздаль, подтвердить Новгороду, его отчизне, прежние льготы и с новым жаром пускается в битвы и в ковы. Какая высокая романтическая мысль была изобразить человека, отдавшего в жертву все радости жизни, все честолюбие света, даже надежду за гробом, – преданности! Стремясь к цели, он топчет и людей и совесть, обманывает, лицемерит, похищает документы, рассылает ложные приказы, восставляет брата на брата… но он выкупает все это жаркою, бескорыстною любовью к пользам детей своего государя. Он возбуждает участие, как вольный мученик, предавшийся уничижению и опасностям всех родов, не страшась ни смерти, ни казни. Вспомнив, что ему, как новогородцу, не мудрено было враждовать против Москвы, вы простите его. Вы будете уважать его за неподдельную, за непоколебимую твердость, и если не полюбите его, то будете сострадать с ним в тяжкой и напрасной борьбе, им предпринятой, – напрасной, ибо он замыслил побороть время, подъемля из ничтожества разбитый им порядок уделов; тяжкой, ибо он сам видит тщету своих дум и козней. Некоторые журналисты упрекают автора, зачем он заставил гудочника говорить книжным слогом, в рассказе дедушке Матвею о политическом быте Руси, особенно об Иерусалиме. Но знают ли эти господа, что для святыни и для учености у нас до сих пор, между священниками, семинаристами и набожными людьми, ведется особый, книжный язык? Мы должны писать как говорим, но в старину грамотеи любили говорить как писали. Прочтите разговор гудочника с Ворфоломеем и последний с Шемякою, и если он не разогреет у вас сердца и если выи тогда в состоянии будете ловить кавыки, – ступайте пилить сандал или поги, но, ради бога, не беритесь судить поэзии.
Другая властительная мысль автора (если не ошибаюсь) была та, чтоб оправдать Шемяку, запятнанного в народе худо понятою пословицею[325], очерненного историками на поруку худо переведенных летописей. С благородным жаром защитник Мстислава Удалого вырывает Шемяку из челюстей клеветы. Но он не изображает его идеалом. Его Шемяка – юноша с откровенным, прямым сердцем, с кипучею душою, с искренним желанием добра своему отечеству; но обстоятельства вонзают в него когти именно с этих сторон и насильно увлекают в козни и мятежи брата. Он готов на мир и дружбу со врагами, но он горд, как русский князь, он покорен отцу, он любит брата. Свой своему заневолю друг, говорит пословица, – вот разгадка его действий сначала, но потом самоотвержение его запечатлено не религиозною печатью, как у гудочника, не клятва «облегла его душу», не чужое мнение движет его – напротив, он идет наперекор всем оттого, что оно бьет прямо из сердца… Его проступки принадлежат веку, его доблести – человеку. Как он спокоен в беде, как незаносчив при успехе! Как умилителен он во вдохновенной беседе с Исидором, увлеченный пророческими мечтами этого грека; как грустно глубокомыслен при пострижении князя Константина; как велик, возглашая врага своего великим князем, поправ, на обломках, надежды Косого, все личные выгоды, все семейные замыслы!.. Как недостижимо великодушен он, прощая Василию, когда новогородские дружины рвутся уже мстить за его обманы и обиды! Напрасно думают, будто бы такие эксцентрические, мечтательные характеры были невозможны в средних веках. Вспомним, что духовные книги были единственным чтением лучшей молодежи; а духовные книги отторгают от земли, проповедуют самоотвержение, ставят правду всего превыше. Не могли разве эти семена неба прозябнуть в сердце, более других чистом? Притом исповедь необходимо приучала людей мыслящих или глубоким чувством одаренных заране допрашивать душу свою для мировой с богом, рыть в ней, следить ее, судить ее и смотреть на предметы духовным образом. В противоположность добросклонного Шемяки вторгается в очи Василий Косой, с его беззаветным честолюбием, с его безрассудною отвагою, с его адскими страстями. Косой есть настоящий тип наших князей, действователей во время смут, каких-нибудь Ольговичей например, у. коих сердца были закалены в буести. Покой душит его; крамолы, битвы ему воздух. Однако несмотря на его запальчивость, которая доходит до того, что он собственной рукою убивает отчего любимца боярина Морозова, невольное внимание ложится на читателя с его призрака, будто холодная тень с вражеской башни.
Злой дух, советник его боярин Иоанн, отделан con amore[326]. Он широко развивает свиток своего русского махиавелизма, смеси дерзости междоусобий с жестоким пронырством татарства, когда уже князья привыкли сражаться не железом, а пергамином, когда они хвалились не тем, кто кого перескакал, а кто кого переполз. Горькая истина говорит его устами, когда он перебирает по пальцам наличную Русь и высказывает собой ходячую нравственность Руси.
Зато характер великого князя обрисован слабо. Трудно провидеть в нем – Василия, с именем Темного, с темными делами, с властолюбием, которое хорошо понимало и удачно душило удельную систему.
Между второстепенных лиц особенно заметны дед Матвей и подьячий Беда. Нам еще и ныне могут встретиться, в классе прасолов, характеры, подобные Матвею, у которых трудолюбие и смышленость наравне с правотою, добротою, характеры утешительные, именно русские. Но, конечно, в дипломатах наших уже не отыщем мы Беды, этого образца старинных дьяков и окольничих, молочных до пустоты и твердых до геройства. Взгляните на этого Беду: он так же хладнокровно убирает скамьи в совете, как бросает договорные грамоты к ногам Юрия, с опасностию жизни. Неземное лицо Димитрия Красного – отрадно. Он болен жизнию; он звезда, упавшая с неба и тонущая в грязном омуте чужих свар. Юрий – занимательный образчик запоздалых суелюбцев, к коим честолюбие приходит с кашлем, которые живут чужим умом, действуют чужою волею, у которых доброта не доблесть, а слабость, у которых самое преступление не злодейство, а слабость. Хронологический порядок событий (ему же неизменно служил по обету своему автор) не дал разгулу драматичности, но события хорошо врамлены в подробности старинного быта, и из них всех любопытнее, ибо всех новее, описание Москвы того времени и третей княжих, столь сходных по расправе с расправою древнего Парижа.
Но барельеф, изображающий вече, бледен и неполон… Вообще должно признаться, что поспешность автора вести далее и далее, захватывая на дороге то и се, много вредит участию. Не успеешь погреться у огонька чувства – тебя влекут вперед, срывают слезу для усмешки, отводят от окна для картинки. Будьте, господа сочинители исторических романов, поскупей на подробности житейского быта и, всего более, не волочите их на аркане в ремонт свой. Пусть они будут попутчики, а не колодники ваши, и если уже необходимо обставить сцену декорациями, то распишите их цветами слога. Новы предметы – сделайте их оригинальными. Стары они – обновите их мыслями, оборотите их незатасканною стороною, взгляните на них с нетоптаной точки и поверьте, что всякий горшок тогда найдет свою поэзию… Свидетели тому Гофман, Вашингтон Ирвинг, Бальзак, Жанен, Гюго, Цшокке[327]. Несноснее всего мне писаки, заставляющие нас целиком глотать самые пустые разговоры самых ничтожных лиц, равно в шинке жида и в гостиной знатного барина; и все для того, чтоб сказать: «это с природы!» Помилуйте, господа! Разве простота пошлость? Разве для того бежим мы в ваши альманахи от прозы общества, чтобы встретить в них ту же скуку? Природа! После этого тот, кто хорошо хрюкает поросенком, величайший из виртуозов и фельдшер, снявший алебастровую маску с Наполеона, первый ваятель!! Искусство не рабски передразнивает природу, а создает свое из. ее материалов. Неоспоримо, связочные сцены необходимы: это примечания, поясняющие текст; но выкупите же их замысловатостию своею, если нельзя дать ее предметам и лицам. Да и кто говорит, что этого нельзя? Дайте нам не условный мир, но избранный мир. Пусть ваш пастух будет Гурт, ваш капрал Трим[328], ваш ветрепик Дон-Жуан, – но все это в русском теле, в русском духе. Наши Иваны Гуртовичи, наши Кремневы Тримовичи, наши Лидины Жуановичи приторны. Пусть всякий сверчок знает свой шесток; пусть не залетают настоящие мысли в минувшее и старина говорит языком ей приличным, но не мертвым. Так же смешно влагать неологизмы в уста ее, как и прежнее наречие, потому что первых не поняли бы тогда, второго не поймут теперь. В этом отношении язык разбираемой нами были очень не ровен. То он не выдержан по лицам, то по времени. Слог порою тяжел и запутан, и лишь там, где говорят возвышенные чувства, разгорается он до красноречия. Такова беседа с Исидором, таково последнее свидание с гудочником. Я вырву два маленькие клочка, хорошо выражающие гнев и любовь Шемяки. От него послы великого князя требуют, чтобы он воевал против родного брата, – он выходит из терпения: «Открыто, прямо говорил и делал я, – еще ль не убежден в этом князь. великий? Зачем же хитрить со мною? Или вы почитаете меня за такого олуха царя небесного, что я не замечу хлеба в печи и стану ее топить? Или вы хотите, чтобы я, отдавши все великому князю, своими руками принес голову родного моего брата и кровью его запил дружбу с Москвою, позор мой и унижение!»
Предчувствую, что при слове олух наши чопорные критики вонзят по крайней мере три восклицательные знака, как будто три отбитых бунчука! Никто не помешает им обриться; но я скажу по сердечному убеждению, что отрывок сей вместе силен и естествен. Гнев, как буря, возметающая со дна морей грязь и янтарь, выбрасывает из человека самые низкие выражения и самые высокие чувства. Так живописал гнев Омир, так Шекспир. Еще: Шемяке кажется, что кн. Заозерский не отдает ему Софии. «Знаю, – говорит он, – что она достойна венца великокняжескою: требуй его, скажи, ты увидишь – я готов и его добывать.
– Душа добрая, душа пылкая, юноша по сердцу моему! обдумал ли ты все это?
– Я не в состоянии нп о чем думать. Знаю только, что если ты не отдашь ее за меня, то я сейчас еду, и не в Углич мой, но в Москву, на битву, в бой, за брата, против брата: кто первый начнет, тот будет мой товарищ».
Как часто, роясь в летописях, историки тратят до последней лепты свой ум и красноречие, чтобы найти причину какого-нибудь странного события, безрасчетного подвига! А он произошел от мгновенной прихоти какого-нибудь князя, оттого, что ему худо спалось или дивно грезилось, или просто потому, что ему хотелось показать свое удальство, разгулять себя, забыть себя в битве. Это настоящий характер русских князей, влюбленных в славу или в деву.
Кончаю нехотя. Замечу при конце, что мы стоим на брани с жизишо, что мы должны завоевать равно свое будущее и свое минувшее, и не обязаны ли мы потому благодарностию тем людям, которые бесплатно, с усилиями, источающими жизнь, отрывают родную сторону из-под снегов равнодушия, из праха забвенья и облекают предков наших в жизнь, давно погибшую для них и столь свежую, кипучую для нас, воспроизводят мать-отчизну точь-в-точь как она была, как она жила! Таков Полевой, так изображает он Русь, не умствуя лукаво, но чувствуя глубоко и сердцем угадывая таинственные гиероглифы характеров, бывших непопятными даже тем, кои носили их на челе. Оп пламенными буквами переписывает их на душах наших, затепляя души перед высоким, перед доблестным! Шалею о тех, которые не постигают или не хотят обнять мысли самоотвержения, проявленной на две грани в «Клятве»; но, убежден я, скоро настанет время, что отдадут справедливость Полевому, равно за его историю и повести, что публика не будет больше прятать в рукав свою руку, но подаст ему ее без перчатки и скажет от сердца: «Спасибо!» Впрочем, неполный успех «Клятвы» произошел, вероятно, от слога: это концерт Бетховена, сыгранный на плохой скрипке. Со всем тем «Клятва» есть дело не только труда и учености, но познаний и вдохновенья; оно стоит не пустого любопытства, но душевного участия, не базарной похвалы книгопродавцев, но искренней признательности. Ждем с нетерпением, что автор, по своему обету, положит другой такой же цветок поэзии на могилу минувшего.
Дагестан, 1833







