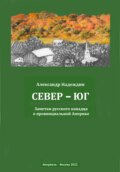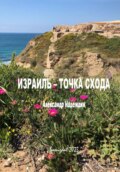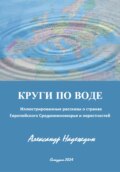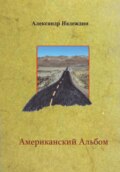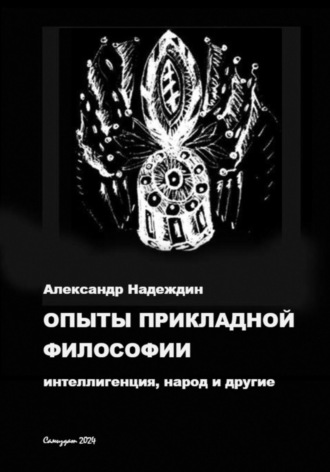
Александр Данилович Надеждин
Опыты прикладной философии: интеллигенция, народ и другие

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАРОД
Противопоставление двух предметов рассмотрения в названии так же, как, например, в названиях некоторых произведений Дмитрия Мережковского или Григория Померанца, не говоря уже о статье Александра Блока9, восходит к традиции Плутарха описывать исторические персонажи (или избранные объекты) парами в сравнении или противопоставлении их характерных черт или аналогичных ситуаций. Такого рода название позволяет, в частности, перепрыгнуть через стадию поисков адекватного определения неких изначальных понятий. Например, вопрос: является ли интеллигенция частью народа? Здесь я тоже попробую применить метод противопоставления, полагая, что в некотором нестрогом смысле «народ» и «интеллигенция» являются двумя главными составляющими множества, называемого нацией. Очевидно, что эти множества пересекаются, но я предполагаю, что область пересечения мала. Те же, кто причисляет себя к двум множествам одновременно, рискуют тем, что подвергнутся осуждению и даже бойкоту с обеих сторон в случае расхождения групповых интересов. Возникает и специальный случай индивидуума, не принадлежащего ни одной из групп, но об этом позже.
В поисках определений
Так или иначе, я предполагаю, что и интеллигенция, и народ обладают отличными друг от друга характеристиками, обусловленными объективными законами общественного устройства. Таким образом, интеллигентный10 человек, благодаря своим личным связям ставший частью интеллигенции как некоей отдельной группы населения, демонстрирует черты и мысли, объединяющие его с другими членами этой группы. Это похоже на отношения людей, собравшихся на митинг, каждый со своим пониманием ситуации. Изначально далеко не все пришедшие разделяют эмоции и мнения большинства, но, как правило, в дальнейшем наступает консолидация и, если угодно, единодушие собравшихся по отношению к цели митинга.
В советской школе нам говорили, что интеллигенция – это прослойка между двумя классами с несовпадающими интересами, как-то буржуазия и рабочие. Хочу заметить, что помимо подпольных предпринимателей, в СССР официально не существовало эксплуататорских классов. Но так называемая интеллигенция всё равно называлась прослойкой по старой традиции, унаследованной от дореволюционных марксистов. Она состояла из людей, которым в целом разрешалось не работать физически. Сюда формально входили и партийные работники, и служащие и часть военных. Однако в обиходном смысле интеллигенцией, как я тогда понимал, считали людей умственного труда, не принадлежавшиx к номенклатуре, и так называемых творческих работников. Они были членами достаточно чётко очерченного социального множества со своей субкультурой и своими неформальными лидерами – властителями дум, если угодно. Интересно отметить, что большинством их кумиров на Западе были или крайне левые, или вообще прокоммунистически настроенные деятели культуры. Другое дело, что с появлением легально разрешенного частного предпринимательства в конце восьмидесятых XX века интеллигенция, наконец, нашла себе место в качестве настоящей прослойки между классами эксплуататоров и эксплуатируемых, как их понимала марксистская наука. Иными словами, её члены всё ещё не трудились в поле или на производстве, но и не владели достаточными средствами, чтобы не быть вынужденными обслуживать интересы аппарата управления и частично слившегося с ним класса новой буржуазии. Впрочем, самые активные и прогрессивные интеллигенты присоединились к числу открытых эксплуататоров, стараясь всё же не потерять интеллигентного выражения на лице. Сказанное всё ещё не позволяет мне считать, что определение найдено. Обратимся теперь к сравнению.
Интеллектуалы или интеллигенты
Тут будет уместно поговорить о бытовавшем у нас в течение десятилетий понятии западного интеллектуала. Вдобавок к требующей специальных знаний профессии, знакомству с мировой литературой и элементарными знаниями таких гуманитарных предметов, как этика и психология, здесь должно было присутствовать умение отличить добро от зла, то есть то, чем, как мне кажется, не обладает значительная часть современных «интеллектуалов». Как это случилось? В общем случае уметь отличать добро от зла традиционно требовалось для того, чтобы избежать наказания в этой жизни и адских мук в будущей. Иными словами, не делать зла диктовалось элементарной трусостью перед последствиями. Это детское отношение, по-видимому, разделялось большой частью так называемых простых людей, что со стороны создавало впечатление натурально доброй натуры, приписываемой народу. Впрочем, привычка могла стать второй натурой. Интеллектуал же выбирал добро сознательно, то есть не из страха, а из рациональных соображений. Таким образом, возникало чувство (которое я считаю формой гордыни), что ни боязнь ада, ни сама вера в божественную справедливость не нужны человеку с развитым сознанием для того, чтобы правильно выбирать свой путь. Так появился и закрепился идеал атеиста, способного судить о добре и зле из соображений разумности, о чем было написано немало стихов и философских трудов. Здесь я себе позволю заметить, что этот идеал не подтверждается практикой, а именно, что атеизм большинства современных нам интеллектуалов и их кумиров привёл к очевидному для непредвзятого наблюдателя размыванию понятий добра и зла в терминах так называемого морального релятивизма, то есть допущению, что какие-то специальные случаи, которых становится всё больше вокруг нас, позволяют оправдать зло в смысле нарушения даже таких простых правил, как 10 заповедей. И тем не менее, до сравнительно недавнего времени11 интеллектуал, часто находившийся в воображаемом контакте с иными временами и мыслителями, не обязательно был вовлечён в злободневную политику. Так сказать: «какое милые, тысячелетье на дворе?»12.
В отличие от интеллектуалов, интеллигенция, существуя в социалистическом государстве, с позволения и даже для пользы властей предержащих (независимо от собственных индивидуальных преференций), так или иначе политикой интересовалась, особенно «на кухне», как было в конце советской эпохи, и принимала в ней разрешённое участие. Так учёный, неспособный заниматься абстрактными проблемами на переднем краю научного познания, обращается к прикладным вопросам, где его знания и способности оказываются достаточными для того, чтобы приносить ощутимые результаты.
Мне хочется также заметить, что и в современных странах Запада большинство интеллектуалов составляет верхушку значительной по числу участников социальной группы, которую можно условно назвать интеллигенцией. Это так называемые «белые воротнички»: работники офисов, адвокатских контор и многочисленных государственных служб различного назначения: от разведки до налогового управления или организаций по охране природы. Все они – выпускники колледжей. С течением времени таких людей становится всё больше, так что и они составляют значительную группу, прослойку, если угодно.
Интеллигенция послесталинского СССР
Во времена хрущёвской оттепели и возникшей возможности познакомиться с особенностями западного образа жизни благодаря книгам, кинофильмам и радиопередачам из-за рубежа, советские интеллигенты достаточно часто говорили, что понятие интеллигенция – чисто русское, предупреждая не путать его с употребляемым на Западе понятием «интеллектуал». И действительно, наша «интеллигенция» в её обыденном смысле не совсем подходит под понятие интеллектуалы. Дело в том, что в России интеллигентов отличали не по уровню интеллектуальной активности, а по особым правилам поведения в обществе, профессии (в хорошие времена, а не в те, когда не принимают на приличную работу по причине классовой или национальной чуждости), порядочности (тоже в хорошие времена, когда не приходится подличать, чтобы выжить или, допустим, хорошо питаться и так далее) а часто и некоему творческому началу. Короче, быть интеллектуалом, то есть уметь процитировать философские труды помимо классиков марксизма было не обязательно. Интеллигенту, как члену социальной группы было предписано в качестве минимума соблюдение определённых моральных принципов, интерес к книгам иностранных писателей или к отечественным книгам религиозно-философского содержания, импрессионизму (или старым иконам) и классической музыке. В целом эти люди участвовали в производстве общественного богатства доступным им способом, отличным от физического труда или поддержания общественного порядка силовыми методами. Здесь придётся упомянуть слово «образованщина», введённое в обиход А. И. Солженицыным, желавшим подчеркнуть отсутствие «настоящей» интеллигенции в Советском Союзе. Но это его частное мнение не отменяет предмета моего рассмотрения.
Если внимательно присмотреться к перечисленным чертам, то для человека, знакомого с жизнью в странах капитализма, многие признаки российских интеллигентов, такие как вежливость, элементарная честность и умение себя вести в общественных местах, соответствуют так называемому верхнему среднему классу, то есть квалифицированным рабочим, зажиточным фермерам, технологам, медицинским работникам, мелким предпринимателям. Книжек, кроме практических руководств и поваренных книг, последние почти не читали в пользу кино и телевизора, а у некоторых – регулярных походов в церковь. Вдобавок, здесь принято жертвовать на бедных поблизости и нуждающихся в далёких странах. Но, конечно, русский интеллигент – это не какой-нибудь вам рабочий или директор овощного ларька. Внешне он похож на Чехова с Булгаковым. Однако стоит заметить, что порой и на Передонова13, если кто ещё помнит такого. Продолжим теперь поиски определения, базируясь на характерных чертах интеллигентов, описанных в литературе, и на генезисе понятия интеллигенция в российской истории.
Обращаясь к психологической составляющей образа советского интеллигента, необходимо сказать несколько слов о современном нам чувстве собственной исключительности, прорывающемся через потоки рассуждений о роли интеллигенции в современном обществе. «Дюжая скотница, девка с Тобозо, лучше всех женщин на свете»14, написал уже в советское время поэт Павел Антокольский. Но это, конечно, неправда. Это фантазия сумасшедшего интеллигента Дон Кихота, которой (фантазией, а не Альдонсой!) восхищается интеллигент Антокольский. В интеллигентной русской компании таких женщин можно было встретить не часто, по крайней мере, в смысле внешних данных, культуры речи и других достаточно поверхностных характеристик. Когда же интеллигентные подруги интеллигентов собирались одни, без своих супругов, градус нетерпимости к «чужим» поднимался. Исключение делалось для ситуации, когда чужие оказывались в положении прислуги. Этой толерантностью к «малым сим» советская интеллигенция коллективно определяла себя как новую аристократию, разумеется, при практически полном отсутствии старой. Таким образом, явочным порядком дети, а особенно внуки героев Октябрьской революции и руководителей Сталинских пятилеток, охотившихся за аристократами предыдущей эпохи, часто сами оказываются де-факто аристократами в глазах современного интеллигентного общества. Есть с помощью ножа и вилки, употреблять к месту «спасибо-пожалуйста» или проявить знакомство с современной литературой они, как правило. хорошо умеют. Что же до благородных инстинктов потомственной аристократии, понятий о чести, например, подобно описанным в старых книгах (Жозеф Де Местр, Альфред де Виньи или, скажем, Павел Чаадаев), на это рассчитывать, кажется, не приходится.
Уникальный эксперимент
В настоящее время мы получили уникальную возможность наблюдать массовый социальный эксперимент, когда значительный сегмент интеллигентов покинул, возможно, надолго, свою страну и среду пребывания, в которой их статус подтверждался и образом жизни, и положением в обществе в качестве потенциального источника реформ и реформистов, совместимых с намереньями властей предержащих. Возникнет ли в России новая поросль интеллигентов, чтобы «свято место» не пустовало, или оставшийся народ устроится жить без этой прослойки, сменив её на некоторое число узких специалистов в деле народного образования, научно-технического прогресса или медицины по образцу знакомых нам из истории 20 века стран Запада. Мне кажется, что капиталистический образ жизни, подвергаясь обусловленным идеологией гонениям на Западе, имеет шанс воплотиться в России на ближайшие десятилетия. Это зависит от не совсем очевидной возможности утвердить и поддержать законы, охраняющие частную собственность от рейдерского захвата.
Нужна ли утвердившемуся в России обществу потребления при минимуме скрепляющей идеологии15, подобному многим странам в аналогичной стадии развития, интеллигенция как классовая прослойка? Это вопрос, не имеющий теоретически обоснованного ответа, и должен решаться эмпирически. Например, интеллектуалы-гуманитарии в капиталистических странах являются простым придатком части политического истэблишмента, занятого утилитарным просвещением и способами организации досуга для производителей. А бытовавшее на уровне общего места убеждение интеллигентного сообщества, что для генерации новых полезных идей необходима свобода слова, печати и других «традиционных черт», приписываемых буржуазному строю, в отличие от авторитарного режима, кажется, по крайней мере отчасти надуманным и противоречащим практике ряда стран современного мира. Например, авторитарно управляемый во все времена Китай, долго учившийся, заимствовавший идеи у США и, так уж совпало, систематически искоренявший интеллигенцию в совсем недалёком прошлом, достиг способности обеспечивать себя, да и почти весь остальной мир техническими разработками (ещё несовершенными, часто ломающимися, но постепенно меняющимися к лучшему). Да и в СССР, то есть стране, где в течение десятилетий интеллигентные технологи, учителя и врачи существовали в условиях максимальной несвободы, прогресс в ключевых областях практической жизни оказался поразительным вопреки исчезновению целых групп интеллектуалов всякого рода вследствие репрессий, имевших малое отношение к их вкладу, но базировавшихся на неумном догматизме властных структур или, того хуже, на контрпродуктивной расовой16 или классовой дискриминации. Можно, к примеру, предположить, что интеллигенция как класс возникает постепенно, в виде одного из излишеств общества потребления, на стадии достижения зрелости и, по определению – стагнации. Период Брежневского правления здесь немедленно приходит на ум.
Откуда пошла интеллигенция в России?
Как говорит сетевой справочник, журналист второй половины XIX века Пётр Боборыкин был одним из первых, кто применил слово «интеллигенция» по-русски для обозначения того слоя общества, представители которого занимаются интеллектуальной деятельностью. Достаточно нейтральное определение, которое не учитывает некоторых социальных и психологических особенностей этого понятия для русских людей. Важнейший аспект существования интеллигенции как отдельной группы вышел на первый план в середине и второй половине XIX века. А именно: интеллигенция (уже в значительной части состоявшая из так называемых «разночинцев») взяла на себя роль политических оракулов, находившихся в прямой и большей частью открытой оппозиции к интеллектуально малоподвижному правительству и общественному порядку, вплоть до оправдания и защиты терроризма. При этом они проявили, по крайней мере, как кажется из нашего далека, удивительное единодушие и единомыслие (конформизм если угодно), позволившее им присвоить себе самим моральное право оказаться в положении судей над литераторами и художниками. Последнее качество было унаследовано через много поколений и кризисов и нынешними леволиберальными блогерами, в то время как консерваторы направляют остриё критики в сторону политических функционеров.
Откуда-то взялась беспардонная уверенность в непогрешимости своих суждений, вплоть до невероятно смешных, но на самом деле страшных утверждений типа: «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Это высказывание В. И. Ленина, человека, по воспоминаниям современников, воспитанного и интеллигентного, приведено здесь лишь как пример категоричности суждений, базирующихся на, по сути своей, некритичном восприятии теоретических выкладок Маркса тогдашними представителями интеллигенции. Интересно, что Карл Маркс в анкете, составленной его близкими, провозгласил своим мотто: «подвергай всё сомнению». Приведённый выше лозунг Ильича был затем подхвачен его молодыми соратниками, которые, в отличие от него самого, не имели преимуществ привилегированного классического обучения и получили образование, сведённое к полезным наукам, вместо широкого усвоения накопленной тысячелетней культуры, даваемого классическим и религиозным воспитанием предшествовавшей эпохи. Недаром старый Степан Трофимович Верховенский, профессор и даже либерал, несчастный отец одного из «бесов» Достоевского, в отчаянии провозглашает почти бессмысленную для слушающей аудитории речь: «я объявляю, что Шекспир и Рафаэль – выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества»… Впрочем, кто знает, были ли эти слова полностью согласны с мировоззрением самого Фёдора Михайловича даже в момент написания романа?
Разночинцы
Разночинцы, уже упомянутые ранее, существовали в России задолго до появления термина интеллигенция. Это были люди, выпавшие из старинного класса «служилых людей», то есть имевшие кое-какое специальное образование и полезную функцию, но достаточно бесправные в отношении своей собственной судьбы. В какой-то момент их число показалось избыточным властям предержащим, собиравшимся переходить на европейские традиции управления в эпоху, последовавшую за первыми реформами Петра. Хотя многие из этой группы населения, как говорит специальная литература, были возвращены в состояние податных крестьян или городских обывателей, часть из них всё же проявила достаточные способности и упорство, чтобы получить более универсальное образование и тем самым заслужить какое-то право голоса в общественном дискурсе, несмотря на отсутствие привилегий потомственного дворянства. Дворян же разночинцы научились со временем ненавидеть и оттеснять со сцены общественных отношений как паразитов «обломовых». А присвоенное себе и разрекламированное самыми бойкими из них право судить своих благородно-рождённых соотечественников оказало на последних гипнотическое действие, сродное параличу. Так ещё в начале своего творческого пути Л. Н. Толстой разочаровался в своём юношеском идеале комильфо, пообщавшись со своим университетским товарищем-разночинцем с нечистыми ногтями, уверенным в своём моральном превосходстве и праве поучать других, благодаря своему изначальному положению униженного и оскорблённого «низким» происхождением. А между тем понятие comme il faut, включавшее непременную заботу о красоте ногтей, имело большой смысл для его великого литературного предшественника17, убитого на дуэли буквально за пару лет до того, когда Лев Николаевич (Николенька в повести «Юность») поступил в Университет. Слова из «Евгения Онегина»: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» и последующий пассаж точно указывают на отношение Пушкина к размыванию социальных условностей в угоду анархической вседозволенности, которую проповедовал «пламенный» Жан-Жак Руссо. Последний, будем считать, «не ведал тогда, что творил».
Левые
А между тем с понятием «разночинцы» произошла странная метаморфоза, так как уже в ХХ веке это слово стали употреблять в качестве эквивалента старой, то есть «хорошей» интеллигенции. Так, Осип Мандельштам в статье о Данте18 назвал своего героя «внутренним разночинцем», имея в виду комплимент, особенно в свете доминирующей идеологии 30-х годов. Ни в коем случае не желая критиковать такое отношение гениального человека к предмету обсуждения, просто отмечу, что в сегодняшнем контексте многое выглядит по-другому. Например, Александр Блок в 1918-м обвинял интеллигенцию в том, что она не смогла оценить и принять революционную стихию в её невероятно жестоких и бессмысленных проявлениях. Иными словами. он считал, что революцию совершил народ, а интеллигенция оказалась неспособной её принять.
А в 2024-м Михаил Шишкин19 прямо говорит о победе интеллигенции над царским режимом в 1917 году и о народе, который в отсутствие твёрдой власти погрузил страну в кровавый хаос, так сказать, локальный Апокалипсис. В свете последних десятилетий эта пиррова победа20 российской интеллигенции видится как частный случай самоубийственной борьбы образованного класса во многих странах Запада за разрушение цивилизации, его породившей! Ироническая сторона этого наблюдения заключается в том, что Западное общество, наконец, создало свой вариант интеллигенции, напоминающей русскую традиционную прослойку начала ХХ века, и повторило её роль в развитии (иной скажет – регрессе) общественного устройства, а заодно и в удивительной для капиталистических традиций групповой солидарности и даже в достаточно легко приобретаемом знакомстве с современными художественными и музыкальными достижениями. Осталось лишь добавить коллективизм, конформизм и марксизм в явной или завуалированной форме. Даже воинствующий атеизм русских интеллигентов середины 19 века, начиная с Виссариона Белинского, насквозь пронизал теперь интеллектуальную элиту Америки, чьими вождями были и остаются друг СССР Бертран Рассел, противник религии, выступающий от имени Чарльза Дарвина Ричард Докинс и проповедник эволюционного происхождения морали, внешне поразительно напоминающий примата, Юваль Харари. Надо признать, что Российская ветвь этого мирового либерального движения проявляет самостоятельность в виде некоторых её представителей – крестившихся евреев-атеистов. Но эта деталь каким-то образом ушла на задний план. Коллапс Европейской Цивилизации, независимо от того, придёт ли вслед за ним Мессия, от этого не перестал для них быть желанной или, по крайней мере, неизбежной перспективой. Эти рассуждения, как мне хочется верить, не описывают всей массы интеллектуалов, но наиболее организованную и громко кричащую её часть. Об остальных можно строить предположения или связывать с ними какие-то надежды на будущее выздоровление.