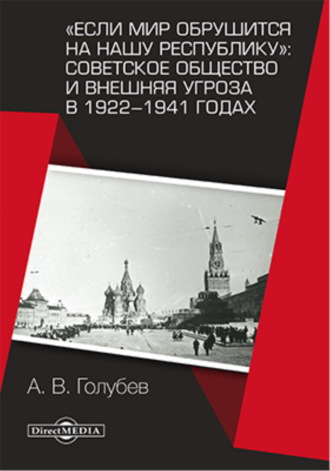
Александр Голубев
«Если мир обрушится на нашу республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1922–1941 годах
В августе 1930 г., также отталкиваясь от решений XVI съезда, агитационно-пропагандистский отдел ЦК ВКП(б) провел совещание редакторов центральных газет по вопросу постановки иностранной информации в печати. В принятом постановлении отмечалось возрастание интереса трудящихся к международной информации и ставилась задача обеспечивать «интернациональное воспитание трудящихся в духе солидарности с борьбой международного пролетариата и внедрение в их сознание правильного понимания процессов внутри мирового капитализма». Для этого требовалось «в максимальной мере использовать те возможности в области углубленного показа отрицательных сторон капиталистической системы и условий революционной борьбы рабочих и колониальных и полуколониальных народов, которые представляет широко, систематически поставленная, надлежащим образом комментированная и обработанная внешняя информация [курсив мой – авт.]» Однако, по мнению авторов постановления, в данный момент состояние внешнеполитической информации оставалось совершенно неудовлетворительным. Ей уделялось мало места, изложение не всегда учитывало уровень читателей, а главное, «освещение отдельных фактов международной политики и интернациональной классовой борьбы носит преимущественно отрывочный характер и не увязывается со всей системой крупных процессов, происходящих в капиталистических странах». В числе мер, предложенных совещанием, были такие, как подготовка квалифицированных коммунистических кадров журналистов-международников, политизация работы корреспондентов ТАСС за границей, укрепление связей с Коминтерном, Профинтерном, иностранными компартиями и др.[147]
Примером «правильной картины мира», представленной в советской прессе, может служить отрывок из воспоминаний Н. А. Седикова[148]. Автор воспоминаний несколько лет работал за границей, занимал заметные должности в советском государственном и партийном аппарате. Трудно сказать, как он на самом деле воспринимал «внешний мир»; по крайней мере, в своих недавно опубликованных мемуарах он так воспроизводит свои впечатления от номера «Правды» за 22 июня 1941 г.: «Я получил газету “Правда”, просматриваю – Передовая статья – “Народная забота о школе”. “Пленум Московского областного комитета ВКП(б) об итогах весеннего сева и предстоящей уборке урожая 1941 г.” “Сахарной свекле – образцовый уход”. Лекция – “Свобода и необходимость”. Фотоснимок – новый Киевский стадион. Какое замечательное сооружение! “Подготовка к Всесоюзному дню физкультурника” – это день, который не забывается никогда, который как в зеркале отражает всю нашу прекрасную жизнь. Какой жизнерадостный, мобилизующий будет фильм об этом празднике. Сколько надежд он несет всему передовому человечеству. Как-то на просмотре такого фильма сидящий со мной рядом рабочий говорит: “Скажи пожалуйста, до чего же хороша жизнь, смотришь на все это и хочется еще больше работать, а ведь для буржуев за границей – это бомба”.
Это у нас, а в капиталистических странах: “Война в Западной Европе”. “Война в Африке, в Средиземном море”. “Война в Сирии, в Китае”. Изуверские, грабительские дела фашистов во Франции, Чехословакии, Польше, Греции, Югославии, Бельгии, Голландии, Норвегии.
Всюду война. Кругом нас разбойничьи дела империалистов. Всюду идет истребление самых лучших, передовых людей и уничтожение ценностей, созданных этими людьми. Капиталисты затеяли очередную грабительскую войну, без которой они не могут существовать.
А мы, социалистическая страна, среди этого старого, прогнившего насквозь и погибающего империалистического мира идем семимильными шагами к завершению той новой жизни, о которой человечество мечтало с древнейших времен, – к коммунистическому обществу»[149].
Изменения происходили и в организации радиовещания. В октябре 1926 г. в отделе агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) обсуждался вопрос о «Рабочей радиогазете». В материалах, подготовленных к обсуждению ее руководителем А. А. Садовским, утверждалось: «Радиогазета при известных условиях может быть мощным политическим орудием, особенно в моменты крупных международных потрясений (пример: английская забастовка в мае 1925 г.)»[150].
Созданное в 1924 г. акционерное общество «Радиопередача» обладало определенной организационной и творческой самостоятельностью. Постепенно, однако, такая ситуация перестала устраивать политическое руководство. Началась длительная реорганизация радиодела, которая завершилась в январе 1933 г., когда постановлением СНК СССР был образован Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию. Его первым председателем был назначен П. М. Керженцев.
Одновременно вводилась жесткая цензура микрофонных текстов, в 1932 г. были ликвидированы радиогазеты, в 1936 г. была введена обязательная рассылка микрофонных материалов из Москвы для местного вещания, наконец, в 1937 г. были запрещены радиопереклички[151].
Усиливалась централизация в области средств массовой информации (впрочем, как и в других областях). В плане работы ВОКС на 1929–1930 годы необходимость этого мотивировалась следующим образом: «Во всех областях, в которых соприкасается социалистическое государство с капиталистическим миром, оно выработало особые формы взаимоотношения с ним». Документ разъяснял, что речь идет о монополии внешней торговли и централизованном характере дипломатических отношений. По аналогии и в области культурных связей необходима подобная монополия: «Всесоюзное Общество культсвязи с заграницей должно явиться призмой, отражающей за границей те области культурной жизни народов Союза, которые нам полезно показывать под углом наших политических задач… В виду невозможности допустить бесконтрольное проникновение из-за границы спорных или чуждых культурных течений, таким фильтрующим и контролирующим органом должен являться ВОКС»[152]. И впоследствии на протяжении 1930–1940-х годов руководство ВОКС неоднократно претендовало, впрочем, без особого успеха, на монополию в этой области. В частности председатель ВОКС В. С. Кеменов в декабре 1940 г. в обширной докладной записке, направленной секретарям ЦК ВКП(б) А. А. Жданову и Г. М. Маленкову, негативно оценил деятельность всех прочих учреждений и организаций, причастных к культурной пропаганде за рубежом, и в очередной раз предложил предоставить ВОКС монополию в этой области[153]. Очевидно, что установление более жесткого контроля над всеми сторонами жизни советского общества, в том числе и в области внешнеполитической информации и пропаганды, отвечало не только идеологии и общим интересам режима, но и чисто бюрократическим аппетитам отдельных ведомств.
Специальное постановление ЦК ВКП(б) в ноябре 1934 г. объявило ТАСС «центральным информационным органом Союза ССР», наделив его «исключительным правом а) распространения за границей информации о Союзе ССР; б) распространения в пределах Союза иностранной и общесоюзной информации»[154]. В январе 1935 г. последовало соответствующее постановление ЦИК и СНК СССР[155].
Ограничения охватывали не только сферу печати и информации. В 1928 г. состоялось Первое всесоюзное партийное киносовещание при ЦК ВКП(б), которое в своем постановлении призвало проводить «решительный курс на дальнейшее сокращение импорта картин, постепенно ограничивая импорт культурными и высокохудожественными фильмами. Однако при обязательном условии идеологической допустимости для нас ввозимых картин»[156].
Разрастался аппарат, осуществлявший цензурные функции.
Уже в декабре 1918 г. вышло «Положение о военно-революционной цензуре», в соответствии с которым цензуре подлежали все книги, издававшиеся в РСФСР. До июня 1922 г. на них ставился обязательный знак «РВЦ №…» (что означало «революционная военная цензура)[157]. В июне 1922 г. декретом СНК РСФСР было образовано Главное управление по делам литературы и издательств Наркомпроса РСФСР (Главлит), ставшее главным органом советской цензуры, в функции которого входил предварительный и текущий контроль над издательской деятельностью, а также ввозом литературы из-за границы.
В декабре 1923 г. К. И. Чуковский записал в дневник свои (может быть, утрированные, но показательные) впечатления от посещения ленинградского Обллита: «Вчера и третьего дня был в цензуре. Забавное место. Слонового вида угрюмый коммунист – без юмора – басовитый – секретарь. Рыло кувшинное, не говорит, а рявкает. Во второй комнате сидит тов. Быстрова, наивная, насвистанная, ни в чем не виноватая, а в следующей комнате – цензора, ее питомцы: нельзя представить себе более жалких дегенератов: некоторые из них выходили в приемную – каждый – карикатурен до жути…»[158]
Уже в 1922–1923 гг. были созданы отделы специального хранения (спецхраны) в Книжной палате, Румянцевской библиотеке (позднее Библиотеке им. В. И. Ленина) в Москве и Публичной библиотеке в Ленинграде для хранения секретной и антиправительственной литературы. С 1923 г. спецхраны из ведения библиотек перешли под контроль Главлита и Главполитпросвета. Постепенно туда же стали поступать практически все эмигрантские и многие иностранные издания. В результате только в спецхране Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде в конце 30-х гг. было 4 тыс. иностранных книг[159].
О том, как была организована работа спецхранов, можно узнать из опубликованных материалов Горьковского обллита. Закрытый спецфонд был создан при Горьковской областной библиотеке им. В. И. Ленина в 1936 г. в соответствии с приказом Главлита. К 1947 г. туда было передано почти 18 тыс. экз. печатной продукции. Т. к. каждое издание должно было сохраняться не более, чем в 2 экз., около 4 тыс. «лишних» экз. было уничтожено. Своеобразным «ноу-хау» Горьковского обллита явилось создание временных, «дочерних» спецфондов, или, вернее, «спецшкафов» – такие спецшкафы были созданы при вузовских библиотеках в годы войны, Временно (т. е. на период войны) помещенная в них литература должна была выдаваться лишь по решению дирекции и партбюро вуза.
В спецфонд поступали книги, газеты и журналы, вышедшие в свет, но впоследствии изъятые Главлитом; издания, выпущенные с соответствующими грифами, например, «для служебного пользования», и иностранные издания, пропущенные Главлитом, но с ограничениями; наконец, издания из числа «устаревших, а также не подлежащих выдаче по политическим соображениям», изъятые из библиотек[160].
Массовые чистки библиотечных фондов начали проводиться с 1923 г., хотя изъятия как таковые в соответствии с инструкциями Наркомпроса происходили и раньше. В журнале «Красный библиотекарь» даже появилась специальная рубрика «К очистке библиотек».
О том, как происходило изъятие не отвечающих господствующей идеологии книг «на местах», российских и иностранных одновременно, свидетельствует протокол 1928 г., сохранившийся (в единственном экземпляре) в одном из провинциальных архивов.
В комиссию вошли представители Губоно, Губархбюро, губернской библиотеки, ГПУ, Гублита, однако реально присутствовали лишь представители Губоно и библиотеки. Были подготовлены два списка (несколько сотен книг в каждом) – «Для полного изъятия» и «Для передачи губернской библиотеке». При этом предполагалось «литературу, утвержденную к полному изъятию, разрешить реализовать в Госторге, придав непригодный для прочтения вид или уничтожать на месте»[161].
Не успели справиться с «чисткой» советских библиотек, особенно в связи с политическими процессами 30-х годов, когда пришлось перевести в спецхраны большую часть политической литературы, изданной в 20-е годы, как возникли новые проблемы.
В 1939–1940 гг. были присоединены Западная Украина и Белоруссия, Бессарабия, прибалтийские страны, а также часть финских территорий. И везде, как в публичных библиотеках, так и в частных домах, как подчеркивалось в письме в «Правду» из Выборга в январе 1941 г., «остались десятки и сотни книг на русском языке, изданных в Хельсинки, Риге, Берлине». При этом само собой разумелось, что «содержание этих книг – антисоветское… В кабинете директора ремесленного училища хранятся явно фашистские книги (на финском языке), которые давно следовало бы изъять»[162].
В Литве за первое полугодие 1941 г. силами местного Главлита были просмотрены книжные фонды 71 библиотеки, 52 книжных магазинов, изъято около 27 тыс. книг, отобрано для пересмотра 30 тыс.[163]
Помимо географии, на цензуру, по-прежнему, действовала и политика. Сближение с гитлеровской Германией привело к тому, что в феврале 1940 г. в «Список книг, подлежащих изъятию из продажи и из библиотек» попали труды Н. Корнева «Третья империя в лицах» (М., 1937) и Э. Отвальта «Путь Гитлера к власти» (М., 1933). Причиной послужило то, что автор первой книги «очень остро говорит об изуверстве германского фашизма и непрочности той базы, на которой держится фашизм. В условиях настоящего времени описываемое содержание книги не соответствует нашей внешней политике», а во второй книге «имеется ряд мест, которые сейчас, после заключения СССР договора о дружбе с Германией, нежелательны… Плохо говорится о Гитлере (на многих страницах)»[164].
Вскоре, в связи с указаниями Главлита, были сданы в макулатуру как «устаревшие» многие книги и брошюры издания 1938–1939 гг. Это были книги антифашистского характера, в том числе принадлежавшие перу видных деятелей западных компартий, в том числе М. Тореза. Тогда же большое количество книг о фашизме было переведено в спецхран.
Впрочем, отношения советской цензуры с гитлеровской Германией были гораздо сложней, чем может иногда показаться. В январе 1941 г. литовский Главлит буквально искромсал несколько номеров местной газеты на немецком языке, «Дейтше Нахрихтен фюр Литауен», вычеркивая из них такие, в частности, пассажи: «Немец не желал войны. Ему эта война была навязана миром, ненавидевшим всей душой новую Германию, как предтечу и носителя новой идеи, нового, лучшего мирового порядка… Мы будем иметь европейско-африканские, российско-азиатские и американские пространства». Убирались упоминания о высоком уровне социального обеспечения в гитлеровской Германии. Наконец, передовая статья «Истинные пути национал-социалистического народа» была снята целиком, «как проводящая агитацию за фашизм и расхваливающая Гитлера»[165].
Буквально накануне войны очередь дошла и до букинистических магазинов. В первой половине 1941 г. сотрудники Мос-облгорлита дважды проводили их проверку. «Результаты удручающие: масса книг на иностранных языках – без штампа. В “Лавке писателей” обнаружено 50 томов иностранных книг, причем 2 из них с антисоветским содержанием… через 3 месяца в той же лавке обнаружены не представлявшихся на контроль Мособлгорлита 400 экз. русской литературы и 100 иностранной, причем 4 из них подлежат изъятию»[166]. Другими словами, «удручающими» оказалось не количество книг, «подлежащих изъятию», а количество книг, вполне безобидных, но не просмотренных цензором.
Изъятие книг на вновь присоединенных территориях еще продолжалось, когда началась война, и многие регионы оказались под нацистской оккупацией. В результате все пришлось повторять заново; так, только в освобожденной Литве республиканский Главлит в 1944–1945 гг. ударными темпами изъял практически всю литературу, изданную за годы оккупации (свыше 3,5 млн экз.) и продолжал изъятие оставшихся книг и прочих изданий уже досоветского периода. В отчете особо подчеркивалось, что букинистические магазины проверялись трижды в неделю. Очевидно, опыт, полученный в предвоенной Москве, был учтен работниками литовской цензуры…[167]
* * *
Исследователи уже обратили внимание на значительное сходство между функциями и приоритетами дореволюционной и послереволюционной цензуры. Так, с 1828 по 1917 годы все иностранные издания, ввозимые в Россию, делились на 4 категории – а) разрешенные к свободному распространению; б) запрещенные совершенно; в) запрещенные для широкой публики; г) разрешенные с изъятиями (т. е. из них вырезались или замазывались фрагменты). Причины для изъятия могли быть следующими: 1. Пренебрежение к русскому и другим царствующим домам. 2. Сопротивление существующему социальному порядку. 3. Изображение русских как варваров. 4. Идеи, оскорбляющие религию и нравственность. В советское время были примерно те же категории, причем «не для публики» означало помещение книги или периодики в отдел специального хранения, а изъятия стали делаться уже в процессе перевода, и, по мнению американской исследовательницы М. Т. Чолдин, сохранялись примерно те же причины для запрещения[168]. Вместе с тем цензура была гораздо более размытой, закрытой, распространенной, дополнялась самоцензурой, что, в частности, дало М. Т. Чолдин повод ввести новый термин – всецензура[169].
В «Положении о Главном управлении по делам литературы и издательства (Главлит)», принятом в июне 1922 г., определялись следующие критерии для запрещения издания и распространения произведений: агитация против советской власти, разглашение военных тайн республики, возбуждение общественного мнения путем сообщения ложных сведений и порнографический характер произведения[170].
В интересной, насыщенной фактическим материалом, но несколько односторонней в своих оценках и выводах монографии В. А. Иванова утверждается (в соответствии с общими взглядами автора на роль органов ОГПУ-НКВД в советской системе), что уже с зимы 1931 г. органы госбезопасности, отстранив Обллиты, безраздельно управляли сферой цензуры[171]. В подтверждение автор приводит полный текст телеграммы Секретно-оперативного управления ОГПУ (декабрь 1930 г.), где содержался перечень фильмов, которые не должны были быть допущены на экран[172]. В. А. Иванов, однако, проигнорировал тот факт, что СОИ ОГПУ в своей телеграмме ссылалось на соответствующее распоряжение Главреперткома[173]. Другими словами, решения все же принимались органами цензуры, ОГПУ лишь контролировало их выполнение по своим каналам.
Тем не менее, руководство Главлита, время от времени, пыталось превратить свое ведомство в некое «сверхминистерство цензуры». Так, в апреле 1933 г. в секретной записке начальника Главлита Б. М. Волина в Политбюро предлагалось «на базе Главлита РСФСР создать Объединенный Главлит Союза при Совнаркоме СССР (или ЦИК) с Главлитами союзных республик (непосредственно подчиняющимися центру) при соответствующих Совнаркомах или ЦИК’ах…»[174]
Предложение не было принято, однако уже в октябре 1933 г. начальник Главлита был одновременно назначен уполномоченным СНК по охране государственных тайн с образованием соответствующих самостоятельных отделов, причем их личный состав считался состоящим на действительной военной службе. Решение было утверждено Политбюро.
В 1936 г. комиссия Оргбюро ЦК ВКП(б) предложила проект постановления ЦК о Главлите. Речь шла о выводе Главлита из системы Наркомпроса и превращение его в Главное управление по делам цензуры при СНК СССР. Еще более функции Главлита предполагалось расширить в проекте, подготовленным руководством управления в 1938 г. В них должно было войти изъятие и конфискация произведений печати и искусства, общий контроль за выполнением решений партии и правительства о печати, зрелищах, радиовещании и т. д. Хотя эти проекты не были реализованы, они достаточно адекватно отражали господствующие тенденции в цензурной политике тех лет. Аппарат Главлита рос так быстро, что в 1938 г. его начальник Н. Г. Садчиков обратился к председателю Совнаркома В. М. Молотову с просьбой дать согласие на строительство специального «дома цензуры», в котором предполагалось разместить Главлит и переданную ему Книжную палату[175].
В материалах Свердловского Обллита сохранились «Списки запрещенных иностранных книг», которые рассылала Иностранная группа Главлита, с ноября 1932 по октябрь 1933 г. Цензоры проверяли книги на немецком, французском, английском, реже польском, чешском, финском, итальянском языках, даже на языке эсперанто, и очень редко – на русском (эмигрантские издания). Все книги по результатам проверки были разделены на три категории: допущенные к распространению в СССР; не допущенные к распространению; допущенные в единственном экземпляре только адресату для индивидуального использования, но не распространения. В результате за 12 месяцев из 1221 книги, прошедших цензуру, было допущено 635 (52 %), не допущено 484 (39,6 %), допущено в единственном экземпляре 102 (8,4 %)[176].
О масштабах деятельности Главлита свидетельствует тот факт, что, по свидетельству его руководства, по цензурным соображениям в 1938 г. было уничтожено до 10 % всей печатной продукции, выписываемой из заграницы (подобные меры обходились государству до 250000 золотых рублей в год). В 1939 г. из-за границы было получено примерно 2 млн 360 тыс. экземпляров газет, журналов, книг и брошюр. Из этого числа цензура проверила около 613 тыс. контрольных экземпляров. В результате 44 тыс. названий были запрещены для широкого пользования, а 17,5 тыс. конфискованы и уничтожены (в сумме – те же 10 % от числа проверенных изданий)[177].
Ситуация усугублялась крайне низким культурным и образовательным уровнем советских цензоров.
В уже упоминавшихся дневниках К. И. Чуковского описана такая сценка, подсмотренная в ленинградском Обллите 16 декабря 1923 г.: «Я видел кандидатов: два солдафона в бараньих шапках стояли перед Быстровой [сотрудник Обллита. – А. Г.], и один из них говорил:
– Я теперь зубрю, зубрю и скоро вызубрю весь французский язык.
– Вот тогда и приходите, – сказала она. – Нам иностранные (цензора) нужны…
– А я учу английский, – хвастанул другой.
– Вот и хорошо – сказала она»[178].
Неудивительно, что история советской цензуры изобиловала различными казусами; так, в августе 1925 г. Главрепертком потребовал снять из репертуара Ленинградского академического театра драмы (бывшего Александринского) пьесу Оскара Уайльда «Идеальный муж» как «утверждающую парламентаризм»[179].
В конце 1935 г. Комиссия партийного контроля и отдел печати и издательств ЦК ВКП(б) проверяла работу Главлита. В отчете о проверке утверждалось, что «состояние цензуры в стране является совершенно неудовлетворительным». В центральном аппарате Главлита было 4 сектора – политико-экономический, художественный, сельскохозяйственный и, наконец, так называемый краевой сектор, просматривающий всю литературу, издающуюся в краях и областях. При этом в политико-экономическом секторе не было ни одного экономиста, в художественном секторе (за исключением начальника сектора) ни один цензор не имел специальной подготовки. «Если положение с цензурой в центре явно неудовлетворительно, то на местах, а особенно в районах, оно является прямо катастрофическим» – подчеркивали авторы отчета. Из 3250 райуполномоченных Главлита лишь 297 человек были освобожденными работниками, остальные работали в цензуре по совместительству. «Обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий в большинстве случаев недооценивают работу по цензуре, совсем не дают на нее работников или дают людей проштрафившихся, ни к какой работе вообще не способных» – заключали проверяющие[180].
Этот общий вывод можно проиллюстрировать, в частности, материалами обследования Удмуртского обллита в марте 1934 г. Предварительной цензурой в районах области занимались 13 человек, из них 12 по совместительству (в т. ч. 7 заведующих РОНО). С высшим образованием – 1 человек, со средним – 8, с низшим 2. Два человека получили свое образование в совпартшколе. В областном аппарате работали 2 человека, начальник Обллита (образование – заочный комвуз, стаж работы 4 года), и цензор (образование низшее, стаж работы 1 месяц)18[181].
Если верить новому (с 1938 г.) начальнику Главлита Н. Г. Садчикову, после репрессий 1937–38 гг., в ходе которых только в центральном аппарате Главлита была репрессирована треть сотрудников, «качественный состав работников цензуры» был «значительно укреплен»[182]. Однако на практике наблюдалась, скорее, обратная тенденция: в 1938 году 75,7 % работников Главлита имело среднее и высшее образование, в 1939 г. 73 %, в 1940 г. лишь 55 %. При этом 60 % работников цензуры имели стаж работы до 1 года, и только 12 % работали в цензуре более трех лет[183]. По данным годового отчета Свердловского обллита за 1939 г., из более, чем 80 сотрудников высшее образование имело 2, среднее 17; при этом лишь 20 человек работали в цензуре больше двух лет (и лишь 4 из них – с 1936 г.)[184]
Сам Садчиков, партийный работник из Ленинграда, возглавлявший Главлит до конца 1944 г., отнюдь не был исключением. Впечатления от личной беседы с ним зафиксировал в своем дневнике 9 февраля 1938 г. академик В. И. Вернадский. Садчиков, в частности, был уверен, что «Манчестер Гардиан» – «английский реакционный журнал». По данному поводу Вернадский иронически заметил в упомянутой дневниковой записи: «И в руках этих гоголевских типов – проникновение к нам свободной мысли!»[185]
Неудивительны поэтому случаи, когда, например, один из районных цензоров г. Ворошиловска (ныне Алчевск) предлагал изъять из местного музея бюст Аристотеля, а в Московской области был отмечен «случай запрещения передачи по радио произведений Шуберта на том основании, что автор райлиту неизвестен, а он может быть троцкист»[186].
* * *
Как ни ограничивалось поступление информации из-за рубежа, еще больше ограничений с самого начала существовало в сфере личных контактов. «Любая связь с заграницей квалифицируется также как нарушение закона, как и контакты с зарубежными представителями в СССР», – писал в августе 1927 г. глава чехословацкой миссии в Москве Й. Гирса[187] (на самом деле, очевидно, имелась в виду статья УК РСФСР 58-3, где речь шла о «сношениях в контрреволюционных целях [курсив мой. – А. Г.] с иностранным государством или с отдельными его представителями», вступившей в действие в июне 1927 г.)[188]
Значительное число советских граждан поддерживало отношения с родственниками, оказавшимися за границей (чаще всего речь шла о государствах, образовавшихся на окраинах бывшей Российской империи – Польше, Финляндии, странах Прибалтики).
При этом вся международная переписка (за исключением правительственной, дипломатической и частной переписки «правительственных лиц РСФСР по особому списку») подлежала обязательной перлюстрации[189]. Занимались перлюстрацией информационный отдел ВЧК, позднее отдел политконтроля ОГПУ, секретно-политический отдел ГУГБ НКВД, 2-й спецотдел НКВД. Делались достаточно обширные выписки из писем, некоторые из них, в частности письма «с восхвалениями существующего режима в капиталистических странах», конфисковывались; к проверенным письмам прилагался специальный меморандум, включавший в себя имена и адреса отправителя и получателя, а также отдел ОГПУ-ГУГБ, куда в случае необходимости передавался меморандум. Данные о результатах перлюстрации поступали также (хотя и нерегулярно) в партийные органы[190].
Необходимо отметить, что отношение к перлюстрации в обществе было далеко не однозначным. В ходе обсуждения проекта новой Конституции в октябре 1936 г., например, высказывались такие предложения: «После слова: “неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняется законом” закончить словами: “если эта переписка не направлена против государства”. Дополнить: всю переписку с заграницей проверять и тем самым повысить бдительность в охране интересов нашей Родины… Или: “Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняется законом” – добавить: “только внутри СССР”. Письма, посылаемые за границу, должны обязательно просматриваться нашими соответствующими органами»[191].
Время от времени (в зависимости от ситуации внутри страны) требования к перлюстрации ужесточались. Так, в 1927–1929 гг., в условиях «сплошной коллективизации», ОГПУ распорядилось за счет уменьшения читки международной корреспонденции усилить просмотр внутренней корреспонденции, в частности идущей в армию[192]. Но уже в январе 1930 г., рассматривая вопрос об операции по ликвидации кулачества, коллегия ОГПУ предложила «на время операции усилить перлюстрацию корреспонденции, в частности, обеспечить стопроцентный просмотр писем, идущих в Красную Армию, а также усилить просмотр писем, идущих за границу и из-за границы [курсив мой. – А. Г.]»[193]
В результате цензоры ОГПУ обнаружили все возрастающее количество писем, идущих из деревни за границу, с применением техники тайнописи (писали молоком, использовали и другие органические вещества). В результате была усилена работа спецлабораторий и, одновременно, – «контрразведывательные мероприятия» по поиску и «разработке» авторов писем. Одновременно было усилено внимание к деятельности радиолюбителей, которые также время от времени передавали короткие сообщения о репрессиях, о продовольственных трудностях и пр. своим зарубежным коллегам. Любопытно, что и радиолюбители, и их радиостанции отнюдь не были запрещены. Они были отнесены к категории государственного резерва для связи на случай войны. Однако среди них была создана сеть осведомителей, установлено постоянное наблюдение и налажен строгий учет[194].
Тем не менее, в ряде западных стран стали появляться в прессе разоблачительные материалы, основанные на свидетельствах из СССР, что вызывало, опять-таки, соответствующую реакцию ОГПУ по усилению контроля.
Неудивительно, что связи с заграницей, даже родственные, зачастую воспринимались как «пятно» в анкете. Так, в апреле 1928 г. в материалах полпредства ОГПУ по Сибирскому краю, посвященных специалистам Кузбасстреста, особо подчеркивалось: «ранее работал в Германии, где и учился… Выписывает немецкую литературу… С проживающими в Германии и Англии родственниками ведет переписку»[195].
Получение помощи от родственников из-за рубежа уже являлось преступлением. Только в Ленинграде и Ленинградской области за связь с белой эмиграцией в 1935 г. было репрессировано около 2000 человек, в основном т. н. «бывших», при этом свыше 700 были обвинены как «контрреволюционеры, существующие на средства иностранных фирм и зарубежных родственников»[196].
Не спасали даже относительно высокие посты: в 1937 г. был исключен из партии и снят с должности председатель одного из райисполкомов Омской области Безденежных за то, что «имел жену польку, мать жены по 1937 г. включительно вела переписку с Польшей, о чем Безденежных знал, но мер к прекращению этой переписки не принял»[197]. И подобных примеров можно привести огромное количество.
Профессиональные связи и связи «по интересам» также вызывали пристальное внимание «компетентных органов». В 1932 г. было закрыт основанный в 1908 г. Союз эсперантистов. Даже международные контакты филателистов вызывали подозрения; так, в 1931 г. был арестован известный филателист, у которого изъяли 79 листов филателистической переписки. Этого оказалось достаточно для обвинения и осуждения на 10 лет «за участие в антисоветской организации». В 1934 г. подозрения местных чекистов вызвала переписка заведующего Ливенской электростанцией со своими коллегами из Франции: «связан письменной связью с заграницей – Франция, Париж, что не исключает возможности шпионажа». В результате заведующий был уволен с должности начальника электростанции и стал простым электриком, а позднее был репрессирован и погиб[198].



