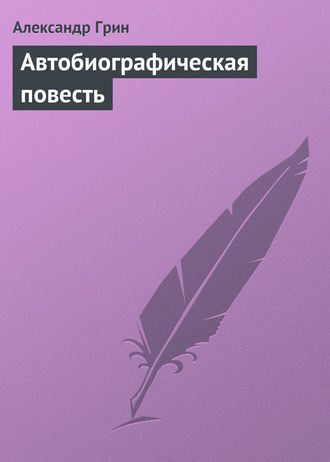
Александр Грин
Автобиографическая повесть
В Пашийском заводе, вокруг которого расположилось большое село, мои спутники отделились: один встретил земляка и пошел с ним работать на домну, второй спутник, получив в конторе задаток, запьянствовал, а я был послан рубить дрова. Проехав сколько-то верст железной дорогой, я пешком прибыл на берег лесной речки, где стоял деревянный дом – лавка и жилье табельщика с его семьей. Отдохнув, выпив чаю, я получил топор, двухручную пилу, четыре железных клина, фунт кирпичного чая, три фунта сахара, двадцать фунтов пшеничного и десять черного хлеба, новый жестяной чайник, фаянсовую кружку, напильник для точки пилы и полфунта «легкого» асмоловского табаку, фунт соли и десять фунтов солонины, еще – мешок тащить поклажу. Все это, кроме инструментов, было мне записано в кредит, в счет работы.
Табельщик рассказал, как найти назначенное мне в лесу жилье дровосеков, и, порядочно поплутав, уже к сумеркам, то есть часа через три, я увидел стоящее перед тысячелетним кедром, разветвления которого сами по себе достигали толщины старых деревьев, а ствол был 2 2/3 сажени в поперечнике, очаровательное глухое бревенчатое жилье, с низкой дверью и железной трубой.
Измученный тяжестью поклажи, я толкнул ногой дверь. Она была не заперта, в бревенчатой хижине никого не было, но на столе, поставленном перед железной печкой, в проходе меж узких нар возле стен покоились следы жизни: недопитая бутылка водки, кружка, хлеб и пачка махорки. Разное тряпье – онучи и прочее – валялось на одной наре. В углу стояло шомпольное ружье. Как мне объяснил табельщик, что в этой избе живет только один дроворуб Илья, то я решил, что попал куда надо; действительно, скоро ввалился в избу огромный рыжий мужик, добродушный Геркулес с рыжей бородой, толстыми губами и глазками-щелками, слегка заикавшийся; его звали Ильей, а потому я успокоился; мы развели огонь, стали варить мясо, пить чай, водку и разговорились.
Узнав, что я впервые в лесу, Илья многое рассказал мне о том, как надо работать.
Во-первых, чтобы пилить двухручной пилой одному, надо снять вторую деревянную ручку, а зубья пилы развести с такой правильностью, чтобы левая и правая сторона их была пряма, как струна. Илья тут же осмотрел мою пилу и наточил ее напильником.
Во-вторых, приступив к дереву, надо смотреть, на какую сторону оно имеет хотя бы малейший наклон. Тогда делается с другой стороны глубокий надрез пилой по направлению желательной линии падения дерева, пила вынимается, и рубщик загоняет в щель клин, колотя по нему, пока дерево, накренясь, не начнет падать. При толстом стволе, когда почти нет места двигать пилу, пропиливают, сколько можно, но пропиливают также с противоположной стороны, ниже первого надреза.
Затем действуют клином.
Тонкие деревья подпиливаются с одной стороны и подсекаются топором с другой, ниже пильной щели.
Впрочем, на другой день, когда пришел табельщик и отвел мне участок, Илья на деле показал все приемы рубки.
Стояло морозное утро. Оставшийся местами на четверть аршина толщины снег покрылся налетом, в который ноги мои проваливались; лапти были набиты снегом. Выйдя рано утром, я дрожал; через час от меня валил пар, и рубаха стала мокрой. Я не сразу научился владеть пилой. Она заскакивала, упиралась, сгибалась, лишь опыт нескольких часов заставил слушаться пилу, ходить ровно и легко. Она была так остра, что разрез ствола толщиной в две четверти занимал не больше двух минут.
Свалив дерево, я отрубал сучья, отмеривал по стволу полуторааршинное расстояние и распиливал ствол на части, начиная с толстого конца. Затем колол эти круглыши, вгоняя в сделанную на конце обрубка топором трещину клинья, один за другим, пока круглыш не распадался. Для очень толстых деревьев я вытесывал добавочные сосновые клинья.
За куб дров завод платил шесть рублей сорок копеек. Только очень опытные дроворубы могли делать полкуба в день, и то в том случае, если попадался хороший участок: сплошь сосновый, толстоствольный и без поросли, очень затрудняющей возню с ноской и складыванием дров.
Работа оказалась неимоверно тяжела, так что я много раз бегал в хижину – то переобуться, то отдохнуть и пить чай. Мои ноги были всегда мокры к вечеру, лапти поэтому сушились над печкой.
А гигант Илья, выйдя до рассвета, возвращался в потемках, сделав свои полкуба, как детскую игру; он еще был в состоянии печь – как он это называл – «пельмени», но на деле просто плоские пироги из пресного теста с сырым мясом. От этих плохо пропеченных пирогов у меня происходило расстройство желудка, но Илья, напившись (именно напившись, как воды) водки, пожирал свою стряпню в огромном количестве и, заблагодушествовав, усердно просил:
– Александра, расскажи сказку!
Илья был моей постоянной аудиторией. Неграмотный, он очень любил слушать, а я, рассказывая, увлекался его восхищением. За две недели я передал ему весь мой богатый запас Перро, бр. Гримм, Афанасьева, Андерсена; когда же запас кончился, я начал варьировать и импровизировать сам по способу Шахерезады. Если Илья видел, что я устал или не в настроении, он заботливо поил меня водкой (всегда четверть стояла у него под нарами) и кормил своими дымно пахнувшими «пельменями». Стоило посмотреть, как он, торопливо жуя и понукая: «Ну, ну… а царь что сказал?» – ревет, как бык, над «Снежной королевой» Андерсена, дико, до слез, хохочет над приключениями Иванушки-дурачка и задумывается, распустив толстые губы, над «Аленьким цветочком».
Иногда, уже улегшись и потушив лампу, я слышал его хриплый, заикающийся бас:
– Угробила она его, ведьма…
День шел за днем, а работа моя двигалась плохо. Мне попался скверный участок, ель и сосна, а ель, как известно, часто завита внутри штопором, так что раскалывать ее очень хлопотливо. Однако за две недели я нарубил куб и три четверти куба.
Иногда я тосковал и не мог работать. Снег везде сошел; запахи и сырость весны были тревожны; дремучий, молчаливый лес окружал меня; раздавались здесь только отдаленный звук топора Ильи и – изредка – треск в чаще неизвестного происхождения. Стук упавшей шишки, стук дятла, скачок белки, хвост убегающей лисицы – все это в течение дня, как события. Мальчиком я стремился к дикой жизни в лесу, а теперь, еще не понимая, чувствовал, как такая жизнь, в сущности, мне чужда. Кроме того, у меня не было будущего. Босяк – лесной бродяга… чужой здесь и чужой там.
Речка, бывшая неподалеку, еще не вскрылась, однако сквозь лед начала проступать вода… Я ходил смотреть заготовленные для скидки дрова. По обоим берегам, составленные в три-четыре яруса, тянулись на несколько верст высокие поленницы, навезенные сюда еще прошлым летом. Они подступали к самому обрыву берега. Сброшенные в полую воду, дрова приплывали в заводскую запруду. За ближайший к воде ряд платили десять копеек за погонную сажень, второй стоил пятнадцать копеек, третий – двадцать пять копеек и четвертый – сорок копеек. Впоследствии, хлынув сюда толпами из окрестных селений – даже и из дальних, – мужики с бабами первый ряд сбрасывали почти мгновенно с помощью рычагов, сунутых под поленницу, но с другими приходилось трудно, а насколько труднее – расскажу дальше.
Время от времени я ходил за провизией, а Илья ездил в село за водкой и мукой.
Когда сошел весь снег, а лед начал постреливать, в нашу тесную хижину прибыло человек тридцать – мужики, бабы, парни и девушки – на скидку, которая ожидалась со дня на день. Все почти крестьяне приходили семьями.
Было уже так тепло днем и не совсем холодно ночью, что часть народа жила и спала у костров. Чтобы не терять времени, мужики, имевшие пилы, занялись рубкой, свалив для начала тот тысячелетний кедр, под шатром которого стояла наша хижина. Я не мог понять, зачем они взялись за это трудное и маловыгодное дело, так как лесу кругом было более чем довольно, а кедр мог дать самое большее полтора куба при затрате времени целой толпой всего дня. Хотя, действительно, кедр особо выделялся: своей громадой среди других пород он обращал внимание, весь его вид будто говорил: «Я не для дров».
Дерево было окружено толпой, и его начали пилить со всех сторон в четыре пилы. Я ушел утром за провиантом и вернулся часа через три. Весь ствол кедра у корней был истерзан, испилен и изрублен. За толстые ответвления вверху были накинуты веревки – валить кедр скопом, когда ствол прорубят достаточно. Я ушел работать, после чего, возвратясь к заходу солнца, увидел падение дерева. Его сердцевину не смогли дорубить, но собственная тяжесть кедра, покоившаяся теперь на слабом основании, в связи с тягой веревками, обрушила великана. Казалось, что упала целая роща. На другой день началась скидка, а дерево так и осталось лежать до неизвестных времен.
Между тем эти пятнадцать-двадцать человек, занявшись подлинной рубкой дров, легко могли бы поставить за день пять-шесть кубов и заработать рубля по два.
Лед шел с утра, за ночь он поредел, река поднялась до краев обрыва, и рабочие кинулись занимать участки. Десятник отводил столько, сколько просила каждая группа или семья. Мне дали, в общей сложности, сажен пятьдесят дальних и ближних дров. На другом берегу засуетились тоже артели, и река в лесу приняла вид битвы; куда ни взгляни, летели, кувыркаясь над ревущим течением, стаи черных поленьев, и гул ударов их по воде гремел, как пальба. Я никогда не видел такой исступленной, такой бешеной работы. Первые передние поленницы были сброшены быстро; началась мука над третьим, над четвертым рядом. Потому что теперь каждый бросок требовал меткости и основательного размаха.
Часть народа бегала по берегу, подбирая и сбрасывая в воду недоброшенное. Работающие оставались у реки до конца скидки: ночью в лесу пылали сотни костров, возле которых отдыхали и ели, но спать никто не ложился три дня, разве самые немощные. Я работал день, ночь и утро следующего дня, сделав всего двадцать две сажени, больше не мог. Я был полумертв от изнурения.
Сильное эхо окрестностей сообщало ночью картине скидки характер дьявольской оргии, особенно когда на красном блеске костров, обвеянные дымом и речным паром, мелькали всклокоченные черные фигуры. Удесятеряя крики, гул ударов о льдины и воду бревен, тысячами летевших сверху в стремительный поток, полный водоворотов, эхо неистовствовало дико и оглушительно. Вверх и вниз по течению работали тысячи людей.
На четвертый день скидки утром я вышел из хижины. В лесу было тихо. Скидка окончилась. Я два дня просидел безвыходно дома, оправляясь после непосильного потрясения – зверски тяжелой работы.
Пройдя немного к реке, я услышал странные звуки – вздохи, стоны, шепот и причитания. Местами кусты шевелились. Это возвращалась наша партия, человек сто. Мужики шли с трудом, еле волоча ноги, опираясь на палки. Некоторые карабкались на четвереньках. Несколько баб сидело под кустами, они маялись, качая головой из стороны в сторону, или, наваливаясь животом на сложенные руки, тихо ревели. Лица всех были черны и истощены. Один парень лежал на спине, навзничь, с открытым ртом, быстро, часто дыша.
Весь этот день и следующий вокруг нашей хижины был сплошной лазарет.
Илья сильно исхудал; лицо у него почернело, опухло, но он был доволен, потому что выгнал тридцать рублей.
После скидки я работал три дня с одной партией по сплавке. Рабочие идут с острыми баграми по обоим берегам речки, сталкивая в воду застрявшие в траве и выплеснутые водой на берег поленья. Иногда возле кустов образуются настоящие заторы. Их расталкивают. Так партия действует до самого завода – до огромной запруды, где плотно сбившиеся дрова буквально вытесняют воду, и по этому настилу может свободно пройти рота солдат.
С рассвета до вечерней зари я шагал по колено в ледяной воде и не схватил даже насморка, тогда как два раза лежал в вятской больнице больной суставным острым ревматизмом после пустяковой простуды. Я хорошо помню, что ноги мерзли только в начале дня, потом им становилось горячо. Ночью, ночуя в попутной хижине дроворубов, я, конечно, сушил портянки и лапти – как будто утром снова не предстояло проваливаться по колено в трясину и набухший по берегам рыхлый лед.
Плата была один рубль в день.
Утром четвертого дня я остался там, где провел ночь: в доме-лавке, с квартирой табельщика, подобном первому, куда мной были уже сданы инструменты. Отсюда на легком самодельном плоте отправился в завод старик дроворуб, худой и егозливый человек; он взял меня на плот. Мы проскочили невредимо через десятки кипящих пеной порогов. Старик имел задачу сталкивать застрявшие на порогах дрова – целые поляны дров, и эта задача была благополучно выполнена.
Выехав в восемь часов утра, к закату солнца мы были уже на заводе.
До сих пор я с удивлением и страхом вспоминаю быстроту плота, его утлость, мое тогдашнее бесстрашие и рассеянные по руслу зубы порогов, среди которых наш плот вертелся, как балерина. Но старик был хладнокровен, быстр и опытен. Он успевал отталкиваться от камней, сбивать дрова, зацепляться багром за камень и держаться так, покуда расталкивал дровяной затор, – закуривать, балагурить и править.
Про этого-то самого старика, семидесятилетнего, хилого на вид, я потом слышал, что он работает исключительно одним топором и может выставить в день куб дров.
Получив расчет и прожив в заводском селе два дня, в избе старика плотовщика, поев хорошо пельменей, угостясь водкой, я получил расчет (рублей семь) и направился дальше.
Севастополь
I
Я приехал в Севастополь на пароходе из Одессы, где имел почти деловое свидание с Геккером, сотрудником «Одесских новостей».
Я получил в Киеве явочный пароль: «Петр Иванович кланяется», кроме того, у Геккера мне советовали получить «литературу» для Севастополя.
Я отыскал Геккера на его даче на Ланжероне. Разбитый параличом старик сидел в глубоком кресле и смотрел на меня недоверчиво, хотя «Петр Иванович кланялся».
Он не дал мне литературы, сославшись на очевидное недоразумение со стороны Киевского комитета партии с.-р.
Впоследствии мне рассказывали, что мое обращение с ним носило как бы характер детской игры – предложения восхищаться вместе таинственно-романтической жизнью нелегального «Алексея длинновязого» (кличка, которой окрестил меня Валериан – Наум Быховский), а кроме того, я спокойно и уверенно болтал о разных киевских историях, называя некстати имена и давая опрометчивые характеристики.
Я провел ночь в дорогой гостинице, ожидая ежеминутно ареста; мне казалось, что весь город знает о моем фальшивом паспорте. В каждом встречном я видел шпиона.
Утром я сел на пароход в третий класс и через ночь был в Севастополе; по дороге у меня украли пальто.
Неподалеку от тюрьмы стояла городская больница. В ней был смотрителем один старик, бывший ссыльный; к нему я пришел со своим паролем, и он отвел меня к фельдшерице Марье Ивановне, а та отвела меня к Киске, жившей на Нахимовском проспекте.
Киска была центром севастопольской организации. Вернее сказать, организация состояла из нее, Марьи Ивановны и местного домашнего учителя, административно-ссыльного.
Учитель был краснобай, ничего революционного не делал, а только пугал остальных членов организации тем, что при встречах на улице громко возглашал: «Надо бросить бомбу!», или: «Когда же мы перевешаем всех этих мерзавцев!»
Киска выдала мне двадцать рублей, смотритель больницы пожертвовал свое старое ватное пальто с кучерявым сине-фиолетово-коричневым верхом, и я поселился на отдаленной улице, недалеко от тюрьмы, в подвальном этаже. Комната была пуста; ни одного предмета из мебели; там лежал один матрац. Я спал, ел и писал на полу. Утром меня будила игра часов за стеной; они вызванивали мелодию:
Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно.
В роковом его просторе
Много бед погребено.
Впоследствии мне часто вспоминался перебегающий напев мелких колокольчиков, спокойный и безнадежный. Хозяйка, жена матроса, сказала мне, что этот будильник привезен из Болгарии.
Несколько дней я ничего не делал, кроме того, что знакомился с Севастополем и участвовал в некоторых прогулках; так, однажды мы, то есть Марья Ивановна, Киска и я, ходили в Херсонес, смотрели на окрестности сквозь цветные стекла херсонесского монастыря и посетили небольшой археологический музей при раскопках древнего Херсонеса. Я спросил старика сторожа, увешанного медалями:
– А можете ли вы показать мне пуговицу от штанов Александра Македонского?
Сторож разгорячился.
– Тут много бывает публики, – сердито отчитал он меня. – Сколько народу ходило, а никто таких глупостей спрашивать не позволяет!
Всю дорогу обратно я слушал брюзжание надувшейся Киски, оскорбленной моей некультурностью и презрением к археологии. Действительно, мне было скучно в музее, среди мертвых вещей. Однако мне понравились вкопанные на перекрестках миниатюрных улиц Херсонеса огромные глиняные амфоры; жители собирали в них дождевую воду.
Киска имела связи среди рядовых крепостной артиллерии и матросов флотских казарм. Сама она была выслана из Петербурга в Севастополь на три года под надзор полиции. Я долго ломал голову, стараясь понять, чем руководствуется охранное отделение, посылая революционеров и революционерок в такие центры военной силы, как Севастополь, но никакого объяснения не нашел.
Дело происходило в октябре 1903 года, после многих забастовок и демонстраций по таким крупным городам, как Одесса, Екатеринослав, Киев и другие.
Однажды ночью на Артиллерийской слободке состоялось первое мое свидание с рядовым Палицыным, невзрачным рябоватым солдатиком. Через Киску он распространял в казармах революционную литературу. Киска, бывшая тут же, убедила Палицына созвать собрание рядовых, на котором я должен был с ними говорить.
На другой день поздно вечером я встретил Палицына, как мы условились заранее, в одном закоулке, и он провел меня тайным путем в казарму, вернее – в небольшое строение около береговых укреплений. Из предосторожности огонь не был зажжен; собрание произошло в полной тьме, где блестели только искры махорочных папирос. По-видимому, народу было много, так как дышалось и ступалось с трудом.
Я сказал им так много и с таким увлечением, что впоследствии узнал лестную для меня вещь: оказывается, один солдат после моего ухода бросил с головы на землю фуражку и воскликнул:
– Эх, пропадай родители и жена, пропадай дети! Жизнь отдам!
Такие собрания повторялись несколько раз, но они происходили, ввиду осведомленности начальства о первом собрании, на пустырях, за первым от Севастополя железнодорожным туннелем.
Среди матросов особенно выделялся своей популярностью, конспирацией и энтузиазмом один ефрейтор машинной команды, сормовский рабочий. Его прозвище было Спартак. Это был худощавый человек лет тридцати, со следами оспы на желтом лице, гибкий и своеобразно красивый. Моя задача, как внушила мне Киска (ее прозвище для кружков было Зоя, Киской ее звали городские знакомые), состояла в том, чтобы привлечь Спартака на сторону социально-революционной партии. Спартак симпатизировал эсерам, однако его отталкивал от их программы так называемый «индивидуальный террор»; этот моряк находил более целесообразным массовый террор, устанавливаемый программой с.-д.
Я несколько раз встречался с ним на квартире у Киски и за двором флотских казарм, однако вполне его переубедить не мог. Иногда, казалось, он соглашался, а затем, встретясь другой раз, довольно стройно и доказательно спорил.
Его привлекала земельная часть программы эсеров, отталкивал террор. А так как в Севастополе был комитет с.-д. партии, поставленный и обслуживаемый гораздо лучше, чем наш, то и влияние на Спартака с той стороны было сильнее нашего. Между тем залучить этого человека было бы крайне выгодно: матросы слепо доверяли ему; на какую бы сторону он ни пошел, на ту сторону пошли бы и матросы.
Раздумывая и колеблясь, Спартак поступал мудро, как Соломон: он устраивал собрания равно для с.-р. и с.-д., а сам, присутствуя на них, слушал, сравнивал и решал. Впоследствии он окончательно примкнул к с.-д. партии.







