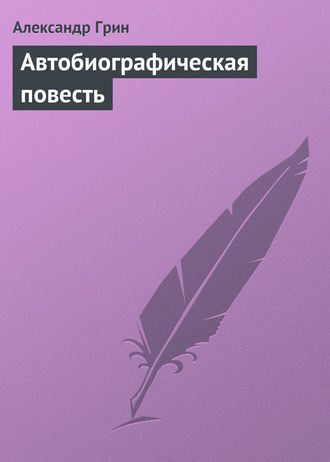
Александр Грин
Автобиографическая повесть
VIII
Дождавшись вечера, я позвонил у черной двери второго этажа на незапомненной улице. Меня встретила худенькая приветливая женщина лет тридцати пяти, с помятым маленьким лицом и украинским акцентом, – жена бухгалтера; провела меня на кухню, где были приготовлены чугуны с кипятком, таз, мыло, полотенце, белье и поношенный, но приличный костюм (темный), рубашка (синяя) была с мягким отложным воротничком, а к ней модный тогда галстук-шнурок. У плиты стояли шевровые ботинки.
Волнуясь, радуясь и стыдясь, я кое-как вымылся, затем оделся, а свои тряпки завернул в газету.
Хозяйка позвала меня выпить чаю. Скоро должен был прийти Силантьев. В маленькой столовой за столом, сидя против белого самовара, вкушая сладкий чай, я разомлел – устал от сытости, тепла и внимания.
Вскоре пришел Силантьев, с довольным видом посматривая на меня, – видимо, тронутый сам событием, которого был он автор.
Хотя разговор не клеился, но был тепл, полон моих благодарностей и наставлений мне – беречь вещи, для чего Силантьев советовал мне идти не в ночлежный дом, где много воров, а просидеть ночь в ночном трактире.
Прощаясь, Силантьев доделал последний штрих: снял с вешалки шелковое кашне и надел мне на шею.
Я вышел; дул ледяной ветер, и я, хотя был в пальто, однако промерз, пока прибежал в трактир на Карантине.
Как жена Силантьева подарила мне двадцать копеек, то я заказал чаю, купил папирос и провел бессонную ночь, страшно устав.
Тут я был свидетелем игры в карты. Вначале за столом играли четверо каких-то бродяг – скорее портовых рабочих; затем один ушел; из оставшихся трех – двое играли особенно азартно.
Проиграв последний гривенник, «А» срывал с себя тельник, ругался в гроб и печенку и бросал вещь на стол; «Б» поспешно оценивал ее, выигрывал и тем же путем отнимал у «А» брюки, подштанники, шапку, башмаки и складной нож. После того, достаточно осмотрев телосложение «А», фортуна свидетельствовала «Б»; «А» постепенно одевался, радостно урча про гроб и печень, а «Б» постепенно раздевался, горестно рыча «в гробовое рыдание» и «могильную плиту».
Выигранные вещи они прятали под себя – садились на них.
За этими наблюдениями кое-как прошла ночь, а на рассвете я отправился искать угловую квартиру.
На углу Почтовой и Карантинной я заметил объявление: «Сдаеца койка» – и зашел в третий, во дворе, этаж.
К моему удовольствию, я встретил там своего будущего сожителя – кочегара Иванова; недавно покинув бордингауз, он работал теперь в литографии, получал двадцать рублей помесячно.
Квартира состояла из двух комнат и кухни; наша комната была проходной.
У стен стояли – одна напротив другой – две койки; вторая пустовала, а стоила она два рубля в месяц.
У хозяйки – прачки, разбитной тридцатилетней хохлушки с рябинами вокруг носа, – был одиннадцатилетний сын.
К хозяйке под воскресенье и другие праздники приходил ночевать на две ночи ее любовник, электротехник городского театра.
Мы сговорились, и я отправился к Силантьеву. Он познакомил меня с заведующим складами, плотным, хорошо одетым человеком в каракулевой шапке, – Мисенко; тот сказал: «Хочешь работать маркировщиком? Тогда приходи с полдня, после обеда».
Так я начал работать в складах, получая рубль десять копеек в день, а если работы не было на полдня или меньше – то шестьдесят копеек.
Надо упомянуть, что, забрав у стрелочника свою корзинку, я обнаружил пропажу моей драгоценности – китайской чашки. Правда, корзина была без замка, лишь завязана, но отрицать вину мог только такой прохвост, как этот стрелочник. Я долго стыдил его, а он утверждал, что ничего не знает о чашке.
Работать приходилось, к сожалению, не каждый день. Зимой пароходы часто задерживались или приходили с таким грузом, при каком маркировщику делать было нечего. Например, коринка: мешки с коринкой приходили без марки.
«Марка» есть условное обозначение литерами груза по принадлежности его тому или иному получателю. Каждая марка груза – мешки, ящики, тюки – складывалась в пакгауз отдельно, чтобы не спутались товары.
Я стоял у входа в пакгауз и смотрел марки на ноше, тащимой грузчиками. Груз лежал у них на спине. В зависимости от марки, я кричал рабочим: «Прямо к стене! К стене налево! В угол направо! Посредине!» и т. д.
Эта работа требовала полного внимания, потому что носильщики вбегали с ношей через три-пять секунд и марки иногда были похожи.
Здесь я также подвергался насмешкам босяков: вначале за свой вид «интеллигента», затем потому, что препятствовал мелким кражам из дыр мешков или разбитых ящиков. Меня дразнили «попович», «поповская шляпа», «фараон», «фискал», хотя я никому не доносил о проделках грузчиков, а, наоборот, видя, что таскают все – и грузчики, и бондари, и таможенные, – сам начал носить домой апельсины, фисташки, лимоны, миндаль, коринку; однажды унес даже кусок краски – индиго, фунта два.
Артель бондарей, на обязанности которых лежала починка разбившихся ящиков, зашивка дыр в мешках и т. п., часто не упускала случая сунуть за нагрудник своих белых передников горсть миндаля, или точенных из черного дерева четок, или пригоршню кофе. Таможенные или смотрели сквозь пальцы, или шептали: «Ребята, осторожнее»; выбрав момент, они сами брали что-нибудь для хозяйства.
Вероятно, поэтому я и не помню случая, чтобы таможенный у ворот при выходе грузчиков на обед или после конца задержал хоть одного похитителя с явно оттопыренными карманами или полами их «польт» (как иначе назвать верхнее тряпье босяков?).
Грузчик, уличенный в краже, изгонялся Мисенко, и его больше на работу не брали – по крайней мере, пока не забывалось это деяние.
Я любил пряный запах пакгауза, ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Все пахло: ваниль, финики, кофе, чай; в соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти неописуемо хорошо было дышать здесь, особенно если грело солнце.
Я иногда ходил обедать домой, тратя из полуторачасового отдыха почти час на ходьбу и еду (хлеб, сало или колбаса с вареной картошкой… м-м-м… ну, апельсины, случалось), а большей частью проводил это время в бордингаузе или в здании таможни. Чай я тогда пил мало, и крайне редко – водку.
К вечеру, совсем закоченев (зима стояла холодная), я становился в ряд с грузчиками, а Мисенко, проходя наш строй, вручал из мешка – рубль и гривенник.
Ранней весной мне удалось совершить рейс в Александрию на пароходе Р. О. П. и Т. матросом, но по недостатку времени я должен отложить эту в своем роде интересную историю до печатания всей книги. Скажу лишь, что уволили меня за сопротивление учебной шлюпочной гребле: этому бессмысленному занятию предал нас капитан «Цесаревича», пленившийся артистической работой веслами английских моряков.
Дело произошло в Смирне, на обратном из Александрии пути. В наказание (а я публично высмеивал потуги капитана и однажды бросил даже весла) меня сняли с работы, и я окончил путь пассажиром, ничего не делая.
На мне осталась хорошая одежда, полный комплект тельников, голландок, две «фланельки», двое брюк – белые и черные. Некоторое время я жил продажей этих вещей, потом работал на погрузке угля; часто, не имея пристанища, ночевал в порту.
Все было уже продано мной – даже моя корзинка, даже краски, которыми хотел я рисовать на берегах Ганга цветы джунглей.
Я сохранил лишь на своем теле голландку с синим воротником, тельник, черные брюки и фуражку с лентой, имевшей надпись золотыми буквами: «Цесаревич».
В начале июля меня потянуло домой. Я получил разрешение капитана одного угольного парохода ехать на нем «за работу» до Ростова-на-Дону. Из Ростова я, также за работу, проехал до Калача-на-Дону; из Калача проехал шестьдесят верст по железной дороге в Царицын, а из Царицына плыл в Казань то «зайцем», то с разрешения; в общем, пересаживался раза три.
В Казани молодой капитан вятского парохода «Булычов» взял меня проехать бесплатно до Вятки и, кроме того, угостил меня в своей каюте прекрасным ужином. По его распоряжению я в дальнейшем ел с матросами.
Из-за перекатов пароход остановился там же, как когда я отправлялся в Одессу, – двести верст от Вятки. Эти двести верст я шел неделю пешком по жидкой грязи: лил беспрерывный дождь, подсекаемый студеным ветром.
Утром, на восьмой день этого шествия, засияло солнце, и стало почти жарко. Вдали уже виднелся голубой купол собора. Я выстирал свою голландку в ручье, почистил башмаки, обсох, умылся, вычистил брюки и к первому часу дня шел уже по деревянным тротуарам города, обращая на себя внимание прохожих.
– Где же твой багаж? – спросил отец после первого радостного напряжения и любопытства встречи.
Как я уже солгал ему, что проехал двести верст на почтовых лошадях, то, естественно, прилгнул и еще:
– Мой багаж остался на почтовой станции… Знаешь… Понимаешь… Не было извозчика.
Отец, жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал; а через день, когда выяснилось, что никакого багажа нет, спросил (и от него пахло водкой):
– Зачем ты врешь? Ты шел пешком? Где твои вещи? Ты изолгался!
Очень многое мог бы я возразить ему, если бы умел: и ложное самолюбие – эту болезнь маленького города, и нежелание мириться с действительностью, и, наконец, желание пощадить, хотя бы в первый день, отцовское чувство.
Вскоре, однако, отец, что-то продумав, повеселел и начал водить меня в гости – показывать сына-моряка.
Тогда я еще не считал конченой свою морскую жизнь, а потому сам ободрился и с увлечением рассказывал о шторме под Порт-Саидом и тому подобное, тщательно обходя все унизительное, что пришлось вынести за этот год самостоятельной жизни.
Баку
I
По возвращении из Одессы я прожил дома до июля 1898 года. За это время я всячески пытался найти занятие: служил писцом в одной из местных канцелярий, переписывал роли (для театра), некоторое время посещал железнодорожные курсы, был банщиком на станции Мураши (шестьдесят верст от Вятки), переписывал, по заказу отца, ведомости годового отчета земства – относительно земских благотворительных заведений… Но не было в жизни мне ни места, ни занятия.
И я решил искать счастья на стороне – подальше от унылой, чопорной Вятки, с ее догматом: «быть как все».
Теперь невозможно припомнить, почему меня тянуло в Баку. По-видимому, я рассчитывал снова плавать на пароходах. Насколько я сравнительно хорошо помню, что было в Одессе, настолько не все ясно относительно Баку; хотя главное – холод и мрак этого отчаянно тяжелого года – удержаны памятью.
Итак, я отправился в Баку. Близко к концу июля. Весь мой капитал составляли данные отцом пять рублей, плетеная корзинка с необходимым бельем, подушка и старое одеяло.
Еще по пути из Вятки в Казань приметил я подвижного человека с бритым, мятым лицом, окруженного дрессированными собачками, – то ехал клоун Горлинов, а ехал он в Саратов, кажется, по вызову антрепренера Саламонского.
Я узнал Горлинова потому, что видел, как на арене вятского цирка он изображал сцену «Отелло и Дездемона», – очень потешно и, по-своему, талантливо.
Клоун ехал в третьем классе, с ним три дрессированные собачки. Как он занимал скамейку у стены кают первого класса, то публика, а особенно дамы губернаторского семейства, ехавшего в Казань, восхищались фокусами собачек и заигрывали с ними.
На этом основании Горлинов составил подписной лист, всучил его одной из дам и с довольным видом пересчитывал часа через два около пятидесяти рублей.
– Я бедный артист, – говорил он мне, – остался без денег: антрепренер был жулик.
Горлинов вел компанию с одним чиновником, ехавшим в Саратов искать службу; они вместе пили пиво и водку.
В Казани я имел неосторожность пойти с ними в трактир. Там, по расчету, вышло с меня два рубля. У них были деньги, а я скрепя сердце отдал последние (оставил на билет до Астрахани рубль сорок копеек – не хватило, а потому наспех продал матросу рубашку за шесть гривен да полтинник призанял у клоуна).
Дальше ехать мне было тревожно и скучно: я жевал сухой хлеб с чаем, а Горлинов, накупив колбасы, водки, копченых стерлядей, пиршествовал, угощал иногда меня и говорил:
– Эх, господа, господа! На пустяки (то есть на трактир) денег вы не жалеете, а на жратву жалеете.
По-видимому, он не верил, что я остался без денег.
Некоторое время я приставал к нему, чтобы он устроил мне службу в цирке, но из этого ничего не вышло; по словам клоуна, труппа и штат служащих были уже наняты. Но он просто не хотел возиться со мной.
Он остался в Саратове, а я, продав еще что-то из белья, доехал до Астрахани, где начал хлопотать в каком-то (не помню уже) учреждении о бесплатном билете в Баку, но такового не получил и воспользовался советом одного босяка: доехать до так называемого Двенадцатифутового рейда на маленьком, только туда ходящем пароходе, а там попроситься на морской пароход за работу.
Дело это мне было знакомо, я так и сделал.
Двенадцатифутовый рейд оказался улицей на воде; я прибыл туда поздно вечером, и у меня осталось впечатление иллюминации в море: огни пристаней, барж, пароходов сияли вверху и – отражениями – внизу.
Без особого сопротивления старший помощник парохода, отходящего в Баку, взял меня ехать «за работу». Я работал и ел с матросами.
Палуба была полна туземцев: персов, шемахинских татар, армян и грузин. Меня поразили их огромные, прекрасного каракуля шапки: черные, белые, серые и золотисто-рыжие. А между тем стояла изнуряющая жара.
Один матрос рассказал мне, как воруют эти шапки. «Привяжем мы, – говорит, – к нитке рыболовный крючок и ночью, когда татарин спит, вцепим крючок в мех, а сами отойдем с другим концом нитки подальше, начнем тихонько тянуть – глядишь, шапка как бы сама к тебе пришла».
II
В Баку я сошел на пристань, не зная, что делать.
В ночлежный дом мне идти не хотелось, и, продав кое-что из одежды на так называемом Солдатском базаре, я поселился за рубль пятьдесят копеек в месяц у одного старика грузчика. Он жил с женой и маленьким, месяцев десяти, сыном. Жена его была молодая женщина, а старику насчитывался восьмой десяток лет, но он был жив, проворен и каждый день работал по выгрузке леса со шкун, приходящих из Астрахани.
Одноэтажный дом, где я жил, находившийся вблизи Черного города, был построен большим квадратом и обнесен, по стороне двора, навесом на столбах. Тут было до тридцати квартир из одной-двух комнат, занимаемых рабочими, мастеровыми, проститутками и старьевщиками.
Каждый день в каком-нибудь углу двора стоял круг игроков в «орлянку». Эта игра была сильно развита среди рабочего населения, и потому о ней следует рассказать.
Самые серьезные игры происходили накануне праздников, по субботам, воскресеньям и понедельникам. Полиция преследовала «орлянку», вследствие чего игроки сходились на дворах или в пустынном месте – где-нибудь за углом глухого переулка. Случалось, что полицейский забегал во двор, тогда орлянщики улепетывали со всех ног, бросая поставленные на «кон», то есть в круг, деньги; бывало, что полиция захватывала часть игроков.
Крупнее всего играли котельщики, получавшие по три копейки с заклепки (две, две с половиной и три копейки, смотря по тому, где и как происходила работа), токари, слесаря и мастера цехов. Так же крупно играли шулера и профессиональные игроки – хорошо одетая публика, в дорогих костюмах, блестящих ботинках, цветных поясах, в каракулевых шапочках или синих картузах.
Игра сопровождалась таким отборным букетом матерной брани, при выигрыше и при проигрыше – безразлично, что я, как ни любил смотреть на игру, не выдерживал игрецкого красноречия и уходил, чтобы очистить уши от мерзостей блудословия.
Мне приходилось видеть круг, уставленный столбиками золотых монет, кучками серебра и внушительными стопками кредитных билетов. Ставили по пятьдесят, сто и более рублей «на удар».
Ритуал «удара», то есть метания высоко вверх медного пятака (или серебряного рубля), состоял в том, чтобы сей пятак вертелся вокруг оси (отнюдь не «бабочкой» – лишь трепеща, но не переворачиваясь); чтобы не крутился «винтом» (тоже уловка для того, чтобы монета упала «орлом» вверх); чтобы летел как можно выше и чтобы эта «метка» (так назывался брошенный пятак) не была, хотя бы слегка, вогнута в сторону «орла».
Для проверки, для «счастья», наконец, просто по суеверию, каждый играющий мог поймать падающий пятак, удостовериться, что он «без фальши» – не «двухорловый», не выбит выпукло, и вернуть его метчику с тем, чтобы тот метал заново.
Один игрок держал «банк», другие ставили; выпал «орел» – метчик брал все; выпала «решка» – всем платил, а если у него не было, то бежал прочь, преследуемый до изнеможения. Его, поймав, избивали, но в тот же день можно было видеть избитого вновь у круга; он, где-то раздобыв денег, играл, клялся, ругался и потирал свои синяки.
Кроме «двухорловых» пятаков, пускались в ход шулерами пятаки, которые были просверлены по плоскости и залиты ртутью – ближе к «решке»; такой пятак на ровном песчаном месте ложился большей частью «орлом» вверх.
Иногда мальчишки, прицепив к пруту шлепок вара или смолы, просовывали удочку между ног игроков; шлепнув смолой по монете, жулик умыкал добычу бегом. Я отвлекся…
Прожив дня три грошами, вырученными за продажу своей скудной одежды, я уже имел вид настоящего босяка: ситцевая рубашка, старый картуз, бумажные коричневые брюки, опорки на ногах – вот все, во что стал я одет.
Я ходил на биржу поденщиков, где иногда получал работу. От этих случайных заработков память сохранила мне очень немногое. Так, помню работу (два дня) на одном заводском дворе, в сараях; я с другим босяком прибрали их, вымели, таскали какие-то трубы, перевешивали с места на место весы, блоки – за шестьдесят копеек в день. Другой раз я работал недели две на забивании свай для вдающейся в море пристани; я очень жалел, что эта работа кончилась.
На настиле, проложенном по концам уже вбитых в дно моря свай, стояло сооружение из двух вертикально поставленных бревен; между ними на канате поднимался ручным воротом массивный кусок чугуна. Когда этот груз поднимали к самому верху бревен, он срывался и бил тяжестью сорока пудов по концу вбиваемой сваи, отчего та сразу понижалась на вершок и более.
Я вместе с другими крутил ворот. Плата была восемьдесят копеек в день, расчет по субботам. Подрядчик приносил деньги и четверть водки; мы выпивали по стакану водки и расходились.
Работать у воды было очень приятно, не так жарко, и, главное, работа была тихая, механическая и однообразная. День проходил незаметно.
Случалось мне также попадать на работу в док, где я соскребывал краску с пароходов или таскал тяжести около стапеля.
Мои усилия восстановить подробности этого года в Баку сходны с усилиями припомнить ускользающий сон.
Уже через несколько дней, как я поселился на квартире старика грузчика, второй его жилец (мы спали с ним на полу), тоже грузчик, повел меня выгружать лес с большой шкуны. В длину трюма были нагружены толстые бревна; их вытаскивали через квадратный люк кормы, устроенный возле руля. На этой страшно тяжелой работе я пробыл только четыре дня, после чего еле двигался от ломоты в крестце, ногах и плечах, – а платили неплохо: рубль двадцать копеек в день.
Вскоре мне пришлось оставить квартиру. Сожитель мой, грузчик Василий, был тяжелый, неразговорчивый человек, с темным лицом и ненормальными глазами; он был скуп, копил деньги и разговаривал мало, с трудом, слегка заикаясь.
Как-то в субботу Василий пришел вечером подвыпивший, чего с ним никогда не было; принес четверть водки, закуску и начал угощать хозяина. Они пили, пели, кричали, а вскоре Василий пригласил и меня; хозяйка тоже осушила стакан водки, после чего легла спать. Старик так напился, что падал на стол. Наконец, уже после двенадцати, он свалился спать в угол, без подстилки, а я лег на свое место; Василий тоже улегся, и лампа была притушена.
Мне не спалось. Я боролся с клопами и подремывал. Начав забываться, я очнулся: Василий лег на кровать к хозяйке, она, тихо голося, гнала его прочь. Эта милая сцена продолжалась несколько минут, после чего, утомясь уговаривать пьяного, бабенка повернулась лицом к стене, а Василий вполз на край кровати, лег и притаился. Должно быть, он пытался каким-то образом декларировать свою неутоленную страсть младенцу, спавшему между ним и женой старика, потому что вдруг раздался отчаянный визг малютки и вопль разъяренной матери:
– Да ты что делаешь, подлец, мерзавец этакий?!
Столкнутый женщиной, Василий упал на пол. Старик проснулся; видя, что все вскочили, что-то смутно чувствуя, он впал в бешенство, схватил табуретку и кинулся на меня.
– Стой, стой! – закричал я. – Не там ищешь!
Старик бросился к Василию. Но тут сбежались жильцы, грузчика выволокли за ворота, выбросили ему его сундучок и начали бить, бить зверски – ногами, кулаками, камнями. И, когда он поднялся, на нем висели одни лохмотья и глаз не было видно.







