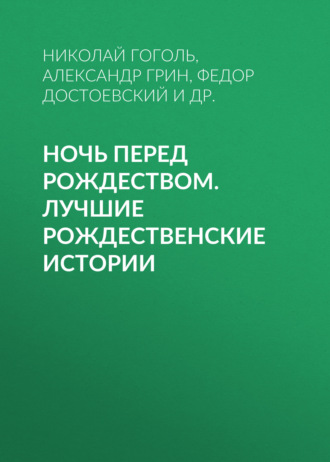
Николай Гоголь
Ночь перед Рождеством. Лучшие рождественские истории
Глава третья
Ходила она и к высшим. Там и доступ труднее, и разговору меньше, да и отвлеченнее.
Говорят: «Да где он? о нем доносят, что его нет!»
– Помилуйте, – плачет старушка, – да я его всякий день на улице вижу – он в своем доме живет.
– Это вовсе и не его дом. У него нет дома: это дом его жены.
– Ведь это все равно: муж и жена – одна сатана.
– Это вы так судите, но закон судит иначе. Жена у него тоже счеты предъявляла и жаловалась суду, и он у нее не значится… Он, черт его знает, он всем нам надоел, – и зачем вы ему деньги давали! Когда он в Петербурге бывает – он прописывается где-то в меблированных комнатах, но там не живет. А если вы думаете, что мы его защищаем или нам его жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймайте, – это ваше дело, – тогда ему «вручат».
Утешительнее этого старушка ни на каких высотах ничего не добилась, и, по провинциальной подозрительности, стала шептать, будто все это «оттого, что сухая ложка рот дерет».
– Что ты, – говорит, – мне ни уверяй, а я вижу, что все оно от того же самого движет, что надо смазать.
Пошла она «мазать» и пришла еще более огорченная. Говорит, что «прямо с целой тысячи начала», то есть обещала тысячу рублей из взысканных денег, но ее и слушать не хотели, а когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трех тысяч, то ее даже попросили выйти.
– Трех тысяч не берут за то только, чтобы бумажку вручить! Ведь это что же такое?.. Нет, прежде лучше было.
– Ну, тоже, – напоминаю ей, – забыли вы, верно, как тогда хорошо шло: кто больше дал, тот и прав был.
– Это, – отвечает, – твоя совершенная правда, но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало, его спросишь: «Можно ли?» – а он отвечает: «В России невозможности нет», и вдруг выдумку выдумает и сделает. Вот мне и теперь один такой объявился и пристает ко мне, да не знаю: верить или нет? Мы с ним вместе в Мариинском пассаже у саечника Василья обедаем, потому что я ведь теперь экономлю и над каждым грошем трясусь – горячего уже давно не ем, все на дело берегу, а он, верно, тоже по бедности или питущий… но преубедительно говорит: «дайте мне пятьсот рублей – я вручу». Как ты об этом думаешь?
– Голубушка моя, – отвечаю ей, – уверяю вас, что вы меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел вести не умею и решительно ничего не могу вам посоветовать. Расспросили бы вы по крайней мере о нем кого-нибудь: кто он такой и кто за него поручиться может?
– Да уж я саечника расспрашивала, только он ничего не знает. «Так, говорит, надо думать, или купец притишил торговлю, или подупавший из каких-нибудь своих благородий».
– Ну, самого его прямо спросите.
– Спрашивала – кто он такой и какой на нем чин? «Это, говорит, в нашем обществе рассказывать совсем лишнее и не принято; называйте меня Иван Иваныч, а чин на мне из четырнадцати овчин, – какую захочу, ту вверх шерстью и выворочу».
– Ну, вот видите, – это, выходит, совсем какая-то темная личность.
– Да, темная… «Чин из четырнадцати овчин» – это я понимаю, так как я сама за чиновником была. Это значит, что он четырнадцатого класса. А насчет имени и рекомендаций, прямо объявляет, что «насчет рекомендаций, говорит, я ими пренебрегаю и у меня их нет, а я гениальные мысли имею и знаю достойных людей, которые всякий мой план готовы привести за триста рублей в исполнение».
«Почему же, батюшка, непременно триста?»
«А так уж это у нас такой прификс, с которого мы уступать не желаем и больше не берем».
«Ничего, сударь, не понимаю».
«Да и не надо. Нынешние ведь много тысяч берут, а мы сотни. Мне двести за мысль и за руководство да триста исполнительному герою, в соразмере, что он может за исполнение три месяца в тюрьме сидеть, и конец дело венчает. Кто хочет – пусть нам верит, потому что я всегда берусь за дела только за невозможные; а кто веры не имеет, с тем делать нечего», – но что до меня касается, – прибавляет старушка, – то представь ты себе мое искушение: я ему почему-то верю…
– Решительно, – говорю, – не знаю, отчего вы ему верите?
– Вообрази – предчувствие у меня, что ли, какое-то, и сны я вижу, и все это как-то так тепло убеждает довериться.
– Не подождать ли еще?
– Подожду, пока возможно.
Но скоро это сделалось невозможно.
Глава четвертая
– Приезжает ко мне старушка в состоянии самой трогательной и острой горести: во-первых, настает Рождество; во-вторых, из дому пишут, что дом на сих же днях поступает в продажу; и в-третьих, она встретила своего должника под руку с дамой и погналась за ними, и даже схватила его за рукав, и взывала к содействию публики, крича со слезами: «Боже мой, он мне должен!» Но это повело только к тому, что ее от должника с его дамою отвлекли, а привлекли к ответственности за нарушение тишины и порядка в людном месте. Ужаснее же этих трех обстоятельств было четвертое, которое заключалось в том, что должник старушки добыл себе заграничный отпуск и не позже как завтра уезжает с роскошною дамою своего сердца за границу – где наверно пробудет год или два, а может быть, и совсем не вернется, «потому что она очень богатая».
Сомнений, что все это именно так, как говорила старушка, не могло быть ни малейших. Она научилась зорко следить за каждым шагом своего неуловимого должника и знала все его тайности от подкупленных его слуг.
Завтра, стало быть, конец этой долгой и мучительной комедии: завтра он несомненно улизнет, и надолго, а может быть, и навсегда, потому что его компаньонка, все-конечно, не желала афишировать себя за миг иль краткое мгновенье.
Старушка все это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, имеющего чин из четырнадцати овчин, и тот там же, сидя за ночвами у саечника в Мариинском пассаже, отвечал ей:
«Да, дело кратко, но помочь еще можно: сейчас пятьсот рублей на стол, и завтра же ваша душа на простор: а если не имеете ко мне веры – ваши пятнадцать тысяч пропали».
– Я, друг мой, – рассказывает мне старушка, – уже решилась ему довериться… Что же делать: все равно ведь никто не берется, а он берется и твердо говорит: «Я вручу». Не гляди, пожалуйста, на меня так, глаза испытуючи. Я нимало не сумасшедшая, – а и сама ничего не понимаю, но только имею к нему какое-то таинственное доверие в моем предчувствии, и сны такие снились, что я решилась и увела его с собою.
– Куда?
– Да видишь ли, мы у саечника ведь только в одну пору, все в обед встречаемся. А тогда уже поздно будет, – так я его теперь при себе веду и не отпущу до завтрего. В мои годы, конечно, уже об этом никто ничего дурного подумать не может, а за ним надо смотреть, потому что я должна ему сейчас же все пятьсот рублей отдать, и без всякой расписки.
– И вы решаетесь?
– Конечно, решаюсь. Что же еще сделать можно? Я ему уже сто рублей задатку дала, и он теперь ждет меня в трактире, чай пьет, а я к тебе с просьбою: у меня еще двести пятьдесят рублей есть, а полутораста нет. Сделай милость, ссуди мне, – я тебе возвращу. Пусть хоть дом продадут – все-таки там полтораста рублей еще останется.
Знал я ее за женщину прекрасной честности, да и горе ее такое трогательное, – думаю: отдаст или не отдаст – господь с ней, от полутораста рублей не разбогатеешь и не обеднеешь, а между тем у нее мучения на душе не останется, что она не все средства испробовала, чтобы «вручить» бумажку, которая могла спасти ее дело.
Взяла она просимые деньги и поплыла в трактир к своему отчаянному дельцу. А я с любопытством дожидал ее на следующее утро, чтобы узнать: на какое еще новое штукарство изловчаются плутовать в Петербурге?
Только то, о чем я узнал, превзошло мои ожидания: пассажный гений не постыдил ни веры, ни предчувствий доброй старушки.
Глава пятая
На третий день праздника она влетает ко мне в дорожном платье и с саквояжем, и первое, что делает, – кладет мне на стол занятые у меня полтораста рублей, а потом показывает банковую, переводную расписку с лишком на пятнадцать тысяч…
– Глазам своим не верю! Что это значит?
– Ничего больше, как я получила все свои деньги с процентами.
– Каким образом? Неужто все это четырнадцатиовчинный Иван Иваныч устроил?
– Да, он. Впрочем, был еще и другой, которому он от себя триста рублей дал – потому что без помощи этого человека обойтись было невозможно.
– Это что же еще за деятель? Вы уж расскажите все, как они вам помогали!
– Помогли очень честно. Я как пришла в трактир и отдала Ивану Иванычу деньги – он сосчитал, принял и говорит: «Теперь, госпожа, поедем. Я, говорит, гений по мысли моей, но мне нужен исполнитель моего плана, потому что я сам таинственный незнакомец и своим лицом юридических действий производить не могу». Ездили по многим низким местам и по баням – все искали какого-то «сербского сражателя», но долго его не могли найти. Наконец нашли. Вышел этот сражатель из какой-то ямки, в сербском военном костюме, весь оборванный, а в зубах пипочка из газетной бумаги, и говорит: «Я все могу, что кому нужно, но прежде всего надо выпить». Все мы трое в трактире сидели и торговались, и сербский сражатель требовал «по сту рублей на месяц, за три месяца». На этом решили. Я еще ничего не понимала, но видела, что Иван Иваныч ему деньги отдал, стало быть, он верит, и мне полегче стало. А потом я Ивана Иваныча к себе взяла, чтобы в моей квартире находился, а сербского сражателя в бани ночевать отпустили с тем, чтобы утром явился. Он утром пришел и говорит: «Я готов!» А Иван Иваныч мне шепчет: «Пошлите для него за водочкой: от него нужна смелость. Много я ему пить не дам, а немножко необходимо для храбрости: настает самое главное его исполнение».
Выпил сербский сражатель, и они поехали на станцию железной дороги, с поездом которой старушкин должник и его дама должны были уехать. Старушка все еще ничего не понимала, что такое они замыслили и как исполнят, но сражатель ее успокоивал и говорил, что «все будет честно и благородно». Стала съезжаться к поезду публика, и должник явился тут, как лист перед травою, и с ним дама; лакей берет для них билеты, а он сидит с своей дамой, чай пьет и тревожно осматривается на всех. Старушка спряталась за Ивана Иваныча и указывает на должника – говорит: «Вот – он!»
Сербский воитель увидал, сказал «хорошо», и сейчас же встал и прошел мимо франта раз, потом во второй, а потом в третий раз, прямо против него остановился и говорит:
– Чего это вы на меня так смотрите?
Тот отвечает:
– Я на вас вовсе никак не смотрю, я чай пью.
– А-а! – говорит воитель, – вы не смотрите, а чай пьете? так я же вас заставлю на меня смотреть, и вот вам от меня к чаю лимонный сок, песок и шоколаду кусок!.. – Да с этим – хлоп, хлоп, хлоп! его три раза по лицу и ударил.
Дама бросилась в сторону, господин тоже хотел убежать и говорил, что он теперь не в претензии; но полиция подскочила и вмешалась: «Этого, говорит, нельзя: это в публичном месте», – и сербского войтеля арестовали, и побитого тоже. Тот в ужасном был волнении – не знает: не то за своей дамой броситься, не то полиции отвечать. А между тем уже и протокол готов, и поезд отходит… Дама уехала, а он остался… и как только объявил свое звание, имя и фамилию, полицейский говорит: «Так вот у меня кстати для вас и бумажка в портфеле есть для вручения». Тот – делать нечего – при свидетелях поданную ему бумагу принял и, чтобы освободить себя от обязательств о невыезде, немедленно же сполна и с процентами уплатил чеком весь долг свой старушке.
Так были побеждены неодолимые затруднения, правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме водворился покой, и праздник стал тоже светел и весел.
Человек, который нашелся – как уладить столь трудное дело, кажется, вполне имеет право считать себя в самом деле гением.
1884
Путешествие с нигилистом
Кто скачет, кто мчится в таинственной мгле?
Гете
Глава первая
Случилось провести мне рождественскую ночь в вагоне и не без приключений.
Дело было на одной из маленьких железнодорожных ветвей, так сказать, совсем в стороне от «большого света». Линия была еще не совсем окончена, поезда ходили неаккуратно, и публику помещали как попало. Какой класс ни возьми, все выходит одно и то же – все являются вместе.
Буфетов еще нет; многие, чувствуя холод, греются из дорожных фляжек.
Согревающие напитки развивают общение и разговоры. Больше всего толкуют о дороге и судят о ней снисходительно, что бывает у нас не часто.
– Да, плохо нас везут, – сказал какой-то военный, – а все спасибо им, – лучше, чем на конях. На конях в сутки бы не доехали, а тут завтра к утру будем и завтра назад можно. Должностным людям то удобство, что завтра с родными повидаешься, а послезавтра и опять к службе.
– Вот и я то же самое, – поддержал, встав на ноги и держась за спинку скамьи, большой сухощавый духовный. – Вот у них в городе дьякон гласом подупавши, многолетие вроде как петух выводит. Пригласили меня за десятку позднюю обедню сделать. Многолетие проворчу и опять в ночь в свое село.
Одно находили на лошадях лучше, что можно ехать в своей компании и где угодно остановиться.
– Ну, да ведь здесь компания-то не навек, а на час, – молвил купец.
– Однако иной если и на час навяжется, то можно всю жизнь помнить, – отозвался дьякон.
– Чего же это так?
– А если, например, нигилист, да в полном своем облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом.
– Это сужект полицейский.
– Всякого это касается, потому, вы знаете ли, что одного даже трясения… паф – и готово.
– Оставьте, пожалуйста… К чему вы это к ночи завели. У нас этого звания еще нет.
– Может с поля взяться.
– Лучше спать давайте.
Все послушались купца и заснули, и не могу уже вам сказать, сколько мы проспали, как вдруг нас так сильно встряхнуло, что все мы проснулись, а в вагоне с нами уже был нигилист.
Глава вторая
Откуда он взялся? Никто не заметил, где этот неприятный гость мог взойти, но не было ни малейшего сомнения, что это настоящий, чистокровный нигилист, и потому сон у всех пропал сразу. Рассмотреть его еще было невозможно, потому что он сидел в потемочках в углу у окна, но и смотреть не надо – это так уже чувствовалось.
Впрочем, дьякон попробовал произвести обозрение личности: он прошелся к выходной двери вагона, мимо самого нигилиста, и, возвратясь, объявил потихоньку, что весьма ясно приметил «рукава с фибрами», за которыми непременно спрятан револьвер-барбос или бинамид.
Дьякон оказывался человеком очень живым и, для своего сельского звания, весьма просвещенным и любознательным, а к тому же и находчивым. Он немедленно стал подбивать военного, чтобы тот вынул папироску и пошел к нигилисту попросить огня от его сигары.
– Вы, – говорит, – не цивильные, а вы со шпорою – вы можете на него так топнуть, что он как биллиардный шар выкатится. Военному все смелее.
К поездовому начальству напрасно было обращаться, потому что оно нас заперло на ключ и само отсутствовало.
Военный согласился: он встал, постоял у одного окна, потом у другого и, наконец, подошел к нигилисту и попросил закурить от его сигары.
Мы зорко наблюдали за этим маневром и видели, как нигилист схитрил: он не дал сигары, а зажег спичку и молча подал ее офицеру.
Все это холодно, кратко, отчетисто, но безучастливо и в совершенном молчании. Ткнул в руки зажженную спичку и отворотился.
Но, однако, для нашего напряженного внимания было довольно и одного этого светового момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядели, что это человек совершенно сомнительный, даже неопределенного возраста. Точно донской рыбец, которого не отличишь – нынешний он или прошлогодний. Но подозрительного много: грефовские круглые очки, неблагонамеренная фуражка, не православным блином, а с еретическим над затыльником, и на плечах типический плед, составляющий в нигилистическом сословии своего рода «мундирную пару», но что всего более нам не понравилось, – это его лицо. Не патлатое и воеводственное, как бывало у ортодоксальных нигилистов шестидесятых годов, а нынешнее – щуковатое, так сказать, фальсифицированное и представляющее как бы некую невозможную помесь нигилистки с жандармом. В общем, это являет собою подобие геральдического козерога.
Я не говорю геральдического льва, а именно геральдического козерога. Помните, как их обыкновенно изображают по бокам аристократических гербов: посредине пустой шлем и забрало, а на него щерятся лев и козерог. У последнего вся фигура беспокойная и острая, как будто «счастья он не ищет и не от счастия бежит». Вдобавок и колера, в которые был окрашен наш неприятный сопутник, не обещали ничего доброго: волосенки цвета гаванна, лицо зеленоватое, а глаза серые и бегают как метроном, поставленный на скорый темп «allegro udiratto». (Такого темпа в музыке, разумеется, нет, но он есть в нигилистическом жаргоне.)
Черт его знает: не то его кто-то догоняет, или он за кем-то гонится, – никак не разберешь.
Глава третья
Военный, возвратясь на свое место, сказал, что, на его взгляд, нигилист немножко чисто одет и что у него на руках есть перчатки, а перед ним на противоположной лавочке стоит бельевая корзинка.
Дьякон, впрочем, сейчас же доказал, что все это ничего не значит, и привел к тому несколько любопытных историй, которые он знал от своего брата, служащего где-то при таможне.
– Через них, – говорил он, – раз проезжал даже не в простых перчатках, а филь-де-пом, а как стали его обыскивать – обозначился шульер. Думали, смирный – посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел.
Все заинтересовались: как шульер ушел из-под воды!
– А очень просто, – разъяснил дьякон, – он начал притворяться, что его занапрасно посадили, и начал просить свечку. «Мне, говорит, в темноте очень скучно, прошу дозволить свечечку, я хочу в поверхностную комиссию графу Лорис-Мелихову объявление написать, кто я таков и в каких упованиях прошу прощады и хорошее место». Но комендант был старый, мушкетного пороху, – знал все их хитрости и не позволил. «Кто к нам, говорит, залучен, тому нет прощады», и так все его впотьмах и томил; а как этот помер, а нового назначили, шульер видит, что этот из неопытных, – навзрыд перед ним зарыдал и начал просить, чтобы ему хоть самый маленький сальный огарочек дали и какую-нибудь божественную книгу: «для того, говорит, что я хочу благочестивые мысли читать и в раскаяние прийти». Новый комендант и дал ему свечной огарок и духовный журнал «Православное воображение», а тот и ушел.
– Как же он ушел?
– С огарком и ушел.
Военный посмотрел на дьякона и сказал:
– Вы какой-то вздор рассказываете!
– Нимало не вздор, а следствие было.
– Да что же ему огарок значил?
– А черт его знает, что значил! Только после стал везде по каморке смотреть – ни дыры никакой, ни щелочки – ничего нет, и огарка нет, а из листов из «Православного воображения» остались одни корневильские корешки.
– Ну, вы совсем черт знает что говорите! – нетерпеливо молвил военный.
– Ничего не вздор, а я вам говорю – и следствие было, и узнали потом, кто он такой, да уже поздно.
– А кто же он такой был?
– Нахалкиканец из-за Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвез, а он по театрам да по балам все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался, а с светил ем ушел.
Военный только рукою махнул и отвернулся.
Но другим пассажирам словоохотливый дьякон нимало не наскучил: они любовно слушали, как он от коварного нахалкиканца с корневильскими корешками перешел к настоящему нашему собственному положению с подозрительным нигилистом. Дьякон говорил:
– Я на его чистоту не льщусь, а как вот придет сейчас первая станция – здесь одна сторожиха из керосиновой бутылочки водку продает, – я поднесу кондуктору бутершафт, и мы его встряхнем и что в бельевой корзине есть, посмотрим… какие там у него составы…
– Только надо осторожнее.
– Будьте покойны – мы с молитвою. Помилуй мя, Боже…
Тут нас вдруг и толкнуло, и завизжало. Многие вздрогнули и перекрестились.
– Вот оно и есть, – воскликнул дьякон, – наехали на станцию!
Он вышел и побежал, а на его место пришел кондуктор.
Глава четвертая
Кондуктор стал прямо перед нигилистом и ласково молвил:
– Не желаете ли, господин, корзиночку в багаж сдать?
Нигилист на него посмотрел и не ответил.
Кондуктор повторил предложение.
Тогда мы в первый раз услыхали звук голоса нашего ненавистного попутчика. Он дерзко отвечал:
– Не желаю.
Кондуктор ему представил резоны, что «таких больших вещей не дозволено с собой в вагоны вносить».
Он процедил сквозь зубы:
– И прекрасно, что не дозволено.
– Так желаете, я корзиночку сдам в багаж?
– Не желаю.
– Как же, сами правильно рассуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете?
– Не желаю.
Взошедший на эту историю дьякон не утерпел и воскликнул: «Разве так можно!» – но, услыхав, что кондуктор пригрозил «обером» и протоколом, успокоился и согласился ждать следующей станции.
– Там город, – сказал он нам, – там его и скрутят.
И что в самом деле за упрямый человек: ничего от него не добьются, кроме одного – «не желаю».
Неужто тут и взаправду замешаны корневильские корешки?
Стало очень интересно, и мы ждали следующей станции с нетерпением.
Дьякон объявил, что тут у него жандарм даже кум и человек старого мушкетного пороху.
– Он, – говорит, – ему такую завинтушку под ребро ткнет, что из него все это рояльное воспитание выскочит.
Обер явился еще на ходу поезда и настойчиво сказал:
– Как приедем на станцию, извольте эту корзину взять.
А тот опять тем же тоном отвечает:
– Не желаю.
– Да вы прочитайте правила!
– Не желаю.
– Так пожалуйте со мною объясниться к начальнику станции. Сейчас остановка.






