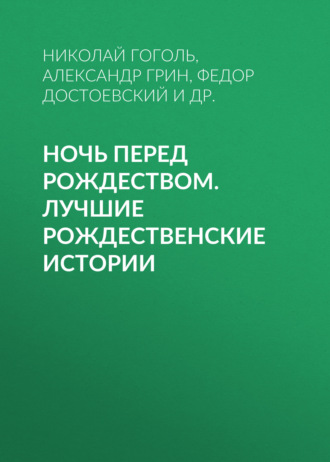
Николай Гоголь
Ночь перед Рождеством. Лучшие рождественские истории
Глава одиннадцатая
Оно так и было. На другой день, ввиду возвращения родителей, нам это открыли и взяли с нас клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей с нами истории.
В те времена, когда водились крепостные люди, иногда случалось, что помещичьи дети питали к крепостной прислуге самые нежные чувства и крепко хранили их тайны. Так было и у нас. Мы даже покрывали, как умели, грехи и проступки «своих людей» перед родителями. Такие отношения упоминаются во многих произведениях, где описывается помещичий быт того времени. Что до меня, то мне наша детская дружба с нашими бывшими крепостными до сих пор составляет самое приятное и самое теплое воспоминание. Через них мы знали все нужды и все заботы жизни их родных и друзей на деревне и учились жалеть народ. Но этот добрый народ, к сожалению, сам не всегда был справедлив и иногда был способен для очень неважных причин бросить на ближнего темную тень, не заботясь о том, какое это может иметь вредное влияние. Так поступал «народ» и с Селиваном, об истинном характере и правилах которого не хотели знать ничего основательного, но смело, не боясь погрешить перед справедливостию, распространяли о нем слухи, сделавшие его для всех пугалом. И, к удивлению, все, что о нем говорили, не только казалось вероятным, но даже имело какие-то видимые признаки, по которым приходилось думать, что Селиван в самом деле человек дурной и что вблизи его уединенного жилища происходят страшные злодейства.
То же самое произошло и теперь, когда нас бранили те, на которых состояла обязанность охранять нас: они не только взвалили всю вину на Селивана, который спас нас от непогоды, но даже взвели на него новую напасть.
Аполлинарий и все Аннушки рассказали нам, что когда Аполлинарий заметил в лесу хорошенький холм, с которого ему казалось удобно декламировать, – он побежал к этому холму через лощинку, засыпанную прошлогодним увядшим древесным листом, но здесь споткнулся на что-то мягкое. Это «мягкое» повернулось под ногами Аполлинария и заставило его упасть, а когда он стал вставать, то увидал, что это труп молодой крестьянской женщины. Он рассмотрел, что труп был в чистом белом сарафане с красным шитьем и… с перерезанным горлом, из которого лилась кровь…
От такой ужасной неожиданности, конечно, можно было перепугаться и закричать, – как он и сделал; но вот что было непонятно и удивительно: Аполлинарий, как я рассказываю, был от всех других в отдалении и один споткнулся о труп убитой, но все Аннушки и Роськи клялись и божились, что они тоже видели убитую…
– Иначе, – говорили они, – мы разве бы так испугались?
И я о сю пору уверен, что они не лгали, что они были глубоко уверены в том, что видели в Селивановом лесу убитую бабу в чистом крестьянском уборе с красным шитьем и с перерезанным горлом, из которого струилась кровь… Как это могло случиться?
Так как я пишу не вымысел, а то, что действительно было, то должен здесь остановиться и примолвить, что случай этот так и остался навсегда необъяснимым в доме нашем. Убитую и лежавшую, по словам Аполлинария, под листом в ямке женщину не мог видеть никто, кроме Аполлинария, ибо никого, кроме Аполлинария, здесь не было. Между тем все клялись, что все видели, точно эта мертвая баба в одно мгновенье ока проявилась на всех местах под глазами у каждого. Кроме того, видел ли в действительности такую женщину и Аполлинарий? Едва ли это было возможно, потому что дело это происходило в самую росталь, когда еще и снег не везде стаял. Древесный лист лежал под снегом с осени, а между тем Аполлинарий видел труп в чистом белом уборе с шитьем, и кровь из раны еще струилась… Ничего такого в этом виде положительного не могло быть, но между тем все крестились и клялись, что видели бабу как раз так, как сказано. И все после боялись ночью спать, и всем страшно было, точно все мы сделали преступление. Вскоре и я получил убеждение, что мы с братом тоже видели зарезанную бабу. Тут у нас началась всеобщая боязнь, окончившаяся тем, что все дело открылось родителям, а отец написал письмо исправнику – и тот приезжал к нам с предлинной саблей и всех расспрашивал по секрету в отцовском кабинете. Аполлинария исправник призывал даже два раза и во второй раз делал ему такое сильное внушение, что у того, когда он вышел, оба уха горели как в огне и из одного из них даже шла кровь.
Это мы тоже все видели.
Но как бы то ни было, мы нашими россказнями причинили Селивану много горя: его обыскивали, осматривали весь его лес и самого его содержали долгое время под караулом, но ничего подозрительного у него не нашли, и следов виденной нами убитой женщины тоже никаких не оказалось. Селиван опять вернулся домой, но это ему не помогло в общественном мнении; все с этих пор знали, что он несомненный, хотя и неуловимый злодей, и не хотели иметь с ним ровно никакого дела. А меня, чтобы я не подвергался усиленному воздействию поэтического элемента, отвезли в «благородный пансион», где я и начал усваивать себе общеобразовательные науки, в полной безмятежности, вплоть до приближения рождественских праздников, когда мне настало время ехать домой опять непременно мимо Селиванова двора и видеть в нем собственными глазами большие страхи.
Глава двенадцатая
Дурная репутация Селивана давала мне большой апломб между моими пансионскими товарищами, с которыми я делился моими сведениями об этом страшном человеке. Из всех моих пансионерских сверстников ни один еще не переживал таких страшных ощущений, какими я мог похвастаться, и теперь, когда мне опять предстояло проехать мимо Селивана, – к этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротив, большинство товарищей меня сожалели и прямо говорили, что они не хотели бы быть на моем месте, а два или три смельчака мне завидовали и хвалились, что они бы очень хотели встретиться лицом к лицу с Селиваном. Но двое из этих были записные хвастунишки, а третий мог никого не бояться, потому что, по его словам, у его бабушки в старинном веницейском кольце был «таусинный камень», с которым к человеку «никакая беда неприступна». У нас же в семье такой драгоценности не было, да и притом я должен был совершить мое рождественское путешествие не на своих лошадях, а с тетушкою, которая как раз перед Святками продала дом в Орле и, получив за него тридцать тысяч рублей, ехала к нам, чтобы там, в наших краях, купить давно приторгованное для нее моим отцом имение.
К досаде моей, сборы тетушки целые два дня задерживались какими-то важными деловыми обстоятельствами, и мы выехали из Орла как раз утром в Рождественский сочельник.
Ехали мы в просторной рогожной троечной кибитке, с кучером Спиридоном и молодым лакеем Борискою. В экипаже помещались тетушка, я, мой двоюродный брат, маленькие кузины и няня – Любовь Тимофеевна.
На порядочных лошадях при хорошей дороге до нашей деревеньки от Орла можно было доехать в пять или шесть часов. Мы приехали в Кромы в два часа и остановились у знакомого купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у нас была в обычае, да ее требовал и туалет моей маленькой кузины, которую еще пеленали.
Погода была хорошая, близкая почти к оттепели; но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить, и потом «закурило», то есть помело по земле мелким снежком.
Тетушка была в раздумье: переждать ли это или, напротив, поспешить, ехать скорее, чтобы успеть добраться к нам домой ранее, чем может разыграться непогода.
Проехать оставалось с небольшим двадцать верст. Кучер и лакей, которым хотелось встретить праздник с родными и приятелями, уверяли, что мы успеем доехать благополучно – лишь бы только не медлить и выезжать скорее.
Мои желания и желания тетушки тоже вполне отвечали тому, чего хотели Спиридон и Бориска. Никто не хотел встретить праздник в чужом доме, в Кромах. Притом же тетушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег, помещавшаяся в красного дерева шкатулочке, закрытой чехлом из толстого зеленого фриза.
Ночевать с таким денежным богатством в чужом доме тетушке казалось очень небезопасным, и она решилась послушаться совета наших верных слуг.
С небольшим в три часа кибитка наша была запряжена, и мы выехали из Кром по направлению к раскольницкой деревне Колчеве; но едва лишь переехали по льду через реку Крому, как почувствовали, что нам как бы вдруг недостало воздуха, чтобы дышать полною грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали головами – это составляло верный признак, что и они тоже испытывали недостаток воздуха. Между тем экипаж несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Ветер был нам взад и как бы гнал нас с усиленною скоро-стию к какой-то предначертанной меже. Скоро, однако, бойкий след по пути стал «заикаться»; по дороге пошли уже мягкие снеговые переносы, – они начали встречаться все чаще и чаще, наконец вскоре прежнего бойкого следа сделалось вовсе не видно.
Тетушка тревожно выглянула из возка, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и сейчас же откинулась назад, потому что ее обдало мелкою холодною пылью, и, прежде чем мы успели дозваться к себе людей с козел, снег понесся густыми хлопьями, небо в мгновение стемнело, и мы очутились во власти настоящей снеговой бури.
Глава тринадцатая
Ехать назад к Кромам было так же опасно, как и ехать вперед. Даже позади чуть ли не было более опасности, потому что за нами осталась река, на которой было под городом несколько прорубей, и мы при метели легко могли их не разглядеть и попасть под лед, а впереди до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на одной седьмой версте – Селиванов лес, который в метель не увеличивал опасности, потому что в лесу должно быть даже тише. Притом в глубь леса проезжей дороги не было, а она шла по опушке. Лес нам мог быть только полезным указанием, что мы проехали половину дороги до дому, и потому кучер Спиридон погнал лошадей пошибче.
Дорога все становилась тяжелее и снежистее: прежнего веселого стука под полозьями не было и помина, а напротив, возок полз по рыхлому наносу и скоро начал бочить то в одну, то в другую сторону.
Мы потеряли спокойное настроение духа и начали чаще осведомляться о нашем положении у лакея и у кучера, которые давали нам ответы неопределенные и нетвердые. Они старались внушить нам уверенность в нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой уверенности в себе не чувствовали.
Через полчаса скорой езды, при которой кнут Спиридона все чаще и чаще щелкал по лошадкам, мы были обрадованы восклицанием:
– Вот Селиванкин лес завиднелся.
– Далеко он? – спросила тетушка.
– Нет, вот совсем до него доехали.
Это так и следовало – мы ехали от Крон уже около часа, но прошло еще добрых полчаса – мы все едем, и кнут хлещет по коням все чаще и чаще, а леса нет.
– Что же это такое? Где Селиванов лес?
С козел ничего не отвечают.
– Где же лес? – переспрашивает тетушка. – Проехали мы его, что ли?
– Нет, еще не проезжали, – глухо, как бы из-под подушки, отвечает Спиридон.
– Да что же это значит?
Молчание.
– Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!
Тетушка выглянула из-за фартука и изо всех сил отчаянно крикнула: «Остановитесь!», а сама упала назад в возок, куда вместе с нею ввалилось целое облако снежных шапок, которые, подчиняясь влиянию ветра, еще не сразу сели, а тряслись, точно реющие мухи.
Кучер остановил лошадей, и прекрасно сделал, потому что они тяжело носили животами и шатались от устали. Если бы им не дать в эту минуту передышки, бедные животные, вероятно, упали бы.
– Где ты? – спросила тетушка сошедшего Бориса.
Он был на себя не похож. Перед нами стоял не человек, а снежный столб. Воротник волчьей шубы у Бориса был поднят вверх и обвязан каким-то обрывком. Все это пропушило снегом и слепило в одну кучу.
Борис был не знаток дороги и робко отвечал, что мы, кажется, сбились.
– Позови сюда Спиридона.
Звать голосом было невозможно: метель всем затыкала рты и только сама одна ревела и выла на просторе с ужасающим ожесточением.
Бориска полез на козла, чтобы потянуть Спиридона, но… ему на это потребовалось потратить очень много времени, прежде чем он стал снова у возка и объяснил:
– Спиридона нет на козлах!
– Как нет! где же он?
– Я не знаю. Верно, сошел поискать следа. Позвольте, и я пойду.
– О господи! Нет, не надо, – не ходи; а то вы оба пропадете, и мы все замерзнем.
Услыхав это слово, я и мой кузен заплакали, но в это же самое мгновение у возка рядом с Борисушкой появился снеговой столб, еще более крупный и страшный.
Это был Спиридон, надевший на себя запасной мочальный кулек, который стоял вокруг его головы, весь набитый и обмерзлый.
– Где же ты видел лес, Спиридон?
– Видел, сударыня.
– Где же он теперь?
– И теперь видно.
Тетушка хотела посмотреть, но ничего не увидала, все было темно. Спиридон уверял, что это оттого, что она «не обсмотремши»; но что он очень давно видит, как лес чернеет… только в том беда, что к нему подъезжаем, а он от нас отъезжает.
– Все это, воля ваша, Селивашка делает. Он нас куда-то заводит.
Услыхав, что мы попали в такую страшную пору в руки Селивашки, мы с кузеном заплакали еще громче, но тетушка, которая была по рождению деревенская барышня и потом полковая дама, она не так легко терялась, как городские дамы, которым всякие невзгоды меньше знакомы. У тетушки были опыт и сноровка, и они нас спасли из положения, которое в самом деле было очень опасно.
Глава четырнадцатая
Не знаю: верила или не верила тетушка в злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнее для нашего спасения, чтобы не выбились из сил наши лошади. Если лошади изнурятся и станут, а мороз закрепчает, то все мы непременно погибнем. Нас удушит буря и мороз заморозит. Но если лошади сохранят силу для того, чтобы брести как-нибудь, шаг за шагом, то можно питать надежду, что кони, идучи по ветру, сами выйдут как-нибудь на дорогу и привезут нас к какому-нибудь жилью. Пусть это будет хоть нетопленая избушка на курьих ножках в овражке, но все же в ней хоть не бьет так сердито вьюга и нет этого дерганья, которое ощущается при каждом усилии лошадей переставить их усталые ноги… Там бы можно было уснуть… Уснуть ужасно хотелось и мне и моему кузену. На этот счет из нас счастлива была только одна маленькая, которая спала за теплою заячьей шубкой у няни, но нам двум не давали засыпать. Тетушка знала, что это страшно, потому что сонный скорее замерзнет. Положение наше с каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли и сидевшие на козлах кучер и лакей начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а тетушка перестала обращать внимание на меня с братом, и мы, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделись веселые сны: лето, наш сад, наши люди, Аполлинарий, и вдруг все это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось… так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжелое хлопанье рогожки на крышке возка, а прямо перед глазами стоит Селиван, в свитке на одно плечо, а в вытянутой нам руке держит фонарь… Видение это, сон или картина фантазии?
Но это был не сон, не фантазия, а судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана, и мы не могли искать себе спасения нигде в ином месте, потому что кругом не было вблизи никакого другого жилья. А между тем с нами была еще тетушкина шкатулка, в которой находилось тридцать тысяч ее денег, составлявших все ее состояние. Как остановиться с таким соблазнительным богатством у такого подозрительного человека, как Селиван?
Конечно, мы погибли! Впрочем, выбор мог быть только в том, что лучше – замерзнуть ли на вьюге или пасть под ножом Селивана и его злых сообщников?
Глава пятнадцатая
Как во время короткого мгновения, когда сверкнет молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество предметов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колена и остолбенели в наклоне, тетушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребенку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребенка.
Селиван стоял молча, но… в его некрасивом лице я не видал ни малейшей злости. Он теперь казался только сосредоточеннее, чем тогда, когда нес меня на закорках. Оглядев нас, он тихо спросил:
– Отогреться, что ли?..
Тетушка оправилась скорее других и ответила ему:
– Да, мы замерзаем… Спаси нас!
– Пусть Бог спасет! Въезжайте – изба топлена.
И он сошел с порога и стал светить фонарем в кибитке. Между прислугою, тетушкою и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и страх, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие.
Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям?
Селиван отвечал:
– Поищем.
Лакей Борис узнавал, есть ли другие проезжие?
– Взойдешь – увидишь, – отвечал Селиван.
Няня проговорила:
– Да у тебя не страшно ли оставаться?
Селиван отвечал:
– Страшно, так не заходи.
Тетушка остановила их, сказавши каждому как могла тише:
– Оставьте, не перекоряйтесь, – все равно это ничему поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю божью.
И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от просторной избы. Впереди всех вошла тетушка, а за нею Борис внес ее шкатулку. Потом вошли мы с кузеном и няня.
Шкатулку поставили на стол, а на нее поставили жестяной оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше.
Практическая сообразительность тетушки сейчас же обратилась к этому предмету, то есть к свечке.
– Прежде всего, – сказала она Селивану, – принеси-ка мне, батюшка, новую свечку.
– Вот свечка.
– Нет, ты дай новую, целую!
– Новую, целую? – переспросил Селиван, опираясь одною рукою на стол, а другой о шкатулку.
– Давай поскорей новую целую свечку.
– Зачем тебе целую?
– Это не твое дело – я не скоро спать лягу. Может быть, буря пройдет – мы поедем.
– Буря не пройдет.
– Ну все равно – я тебе за свечку заплачу.
– Знамо заплатила б, да нет у меня свечки.
– Поищи, батюшка!
– Что неположенного искать попусту!
В этот разговор вмешался неожиданно слабый-преслабый тонкий голос из-за перегородки.
– Нет у нас, матушка, свечечки.
– Кто это говорит? – спросила тетушка.
– Моя жена.
Лица тетки и няни немножко просияли. Близкое присутствие женщины, казалось, имело что-то ободрительное.
– Что она, больна, что ли?
– Больна.
– Чем?
– Хворостью. Ложитесь, мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввесть.
И как с Селиваном ни разговаривали, он настоял на своем: что огарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова – но пока взял его и вышел.
Исполнил ли Селиван свое обещание принести назад огарок, – этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тетушки с няней и улавливал в этом шепоте чаще всего слово «шкатулка».
Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего неблагонадежного хозяина.
Обладавшая большою житейскою опытностью, тетушка моя видела явную необходимость подчиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственные опасному положению распоряжения.
Чтобы Селиван не зарезал нас, решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов, и кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке: они не должны были разъединяться, потому что поодиночке Селиван их перебьет, и мы тогда останемся беспомощны. Тогда он убьет, конечно, и нас и всех нас зароет под полом, где зарыто уже и без того множество жертв его лютости. В избе с нами кучер и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиван обрежет гужи в коренном хомуте, чтобы нельзя было запречь лошадей, или совсем сдаст всю тройку своим товарищам, которые у него пока где-то припрятаны. В таком случае нам не на чем будет и спасаться, между тем как очень может статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучер станет запрягать, а Борис стукнет три раза в стенку, и мы все бросимся на двор, сядем и уедем. Для того чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался.
Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочих, но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело как одно мгновенье, которое вдруг завершилось ужаснейшим пробуждением.






