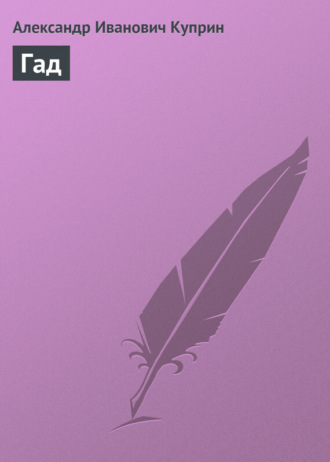
Александр Куприн
Гад
– Извините, я не надоел вам своей болтовней?
– Нет, отчего же? Кстати, не знаете ли, который теперь час?
Он открыл часы и осветил их огнем папироски:
– Без четверти одиннадцать… Вы сами видите, что хлеб наш очень нелегкий. Однако кормились мы им по-немножку. Все-таки, худо-худо, пятерка набежит за день.
Но бывали и тяжелые положения. Мертвый, избитый город. До тебя побывало пятьдесят человек. Ничего не поделаешь. Заколодило. Полиция свирепа. Публика не хочет идти… Приходилось и стрелять на улице – благо язык хорошо подвешен… На бывшего чиновника, на политического студента, на сельского учителя… Грехи!.. А тут еще зубами ляскают свои, городские специалисты… Прошенья писал по трактирам. Но и там есть свои юрисконсульты, очень ревнивые люди. Чуть пронюхали – мордобой, и всегда у него свидетели и заступники. Стало быть, зализывай свои раны, и езда в другой город зайцем, не то пешком. В этих жестоких случаях, бывало, уговоришь какую-нибудь заблудящую бабенку на говорящую голову и на опыты магнетизма и ясновидения. Это вам, конечно, самому известно, как делается: лежит она, облокотившись локтем на острие, подперевши ладонью щечку, а все остальное тело, без никакой подпорки, распростирается горизонтально. Пустяшный нумер. Ну, там иголкой колоть по системе доктора Шарко – это ерунда. Двойная иголка. Внутрь уходит. Но, главное, здесь переход к ясновидению. Угадывать, что за предмет у зрителя: часы, брелок, афиша, портмоне, сколько денег, какие деньги, бинокль, веер, перчатки и тому подобное. Вообще больше тридцати – сорока предметов редко бывает у публики. Итак: шесть прямо, шесть вниз, шестью шесть – тридцать шесть. Всего тридцать шесть условленных предметов. Вроде разговора по тюремной системе. И, представьте себе, никак ей, дуре, не втемяшить. Еще, что попроще, пожалуй, заучит как попугай. Наводящие слова:
«Теперь что?», «А теперь?», «Какой предмет?», «Это что?», «Что я держу в руке?» и тому подобное. А уж что-нибудь особенное, например, старинная платиновая монета, то тут начинаешь метаться, как тигр в клетке, ерошишь волосы, потеешь, рычишь, дрожишь и выбрасываешь из себя разные слова. Ну, скажем, например, платина… Бросаю отрывисто, точно в припадке: «Подождите… Ловите мою мысль… А, как трудно… Теперь вы меня поймете?.. Итак, я вам внушаю… Ну, я вам приказываю!..» И дальше со вздохом: «А впрочем, я не ручаюсь…» Словом, простой акростих в именинных стишках. А она, конечно, стоеросовая дубина, только рот разинет и оконфузит тебя перед публикой: «Пташка!» Подумаешь, тоже пташка – в бабе без пятнадцати фунтов шесть пудов. А вы сами знаете, наша уездная публика какова: деньги назад и сейчас же предсказателя бить. Первое у них правило. Вот, уверяю вас честным, благородным словом: у меня места живого нет на теле.
У вас папиросочка потухла, не угодно ли свеженькую, домашнюю?
Перестали совсем падать с деревьев последние капли. Летняя ночь вдруг улыбнулась, точно капризница, которой надоело сердиться. И сладко, сладко запахли розовые свечки каштанов, запахли так, как они пахнут только после вечернего быстрого летнего дождя или на раннем рассвете, пока город не заглушил их тонкого аромата. Я и хотел уйти, – и не мог. Что-то бесконечно противное и близкое мне было в неожиданной исповеди этого человека. Я уже не ждал и не волновался. И лениво, как следующая, но неизбежная глава надоевшего романа, тянулось продолжение рассказа.
– Вот так-то мне и попалась однажды моя супружница, или там как вы хотите понимайте. Всю эту ясновидящую механику она поняла гораздо быстрее, чем я. Да еще усовершенствовала. Доходили мы с ней до того, что даже в маленьких цирках, называемых «шапито», делали представление. Но все-таки после пяти-шести вечерних представлений наклеиваю афишки, что в номерах, мол, Когтяева от двух до пяти сеансы предсказания будущего с ясновидением настоящего и прошедшего. Если разрешат – прекрасно, а если нет – то в сто раз лучше. Понимаете – тайна!
И сам боишься, и пациентам страх передается. Да и в самом деле, подумайте: пришла кухаренция, я в ее присутствии усыпляю Августу (ее звали Августой), и – трах-тарарах – сразу известно, где она купила ботинки, и как зовут ее хозяина, и сколько ей по-настоящему лет, и сколько детей, и из какой она губернии и уезда, и сколько процентов получает в лавке (десять). Это кухарка все мне на ухо говорит в другой комнате, а я Августе передаю гипнозом.
– Гипноз! – вдруг воскликнул он, сгорбившись, и долго хохотал и кашлял. Потом выбросил изо рта папироску, выпрямился и продолжал: – Большие мы с ней дела делали. Я ведь, ей-богу, и до сих пор не знаю, из каких она. Образованная, к иностранным языкам была способна: французский, немецкий, польский, английский. Но вот, черт побери, какая-то непонятная есть у нее страсть к военным. И не то чтобы к офицерам и генералам, а непременно к простым артиллеристам-солдатам, к фейерверкерам, бомбардирам и наводчикам. Я думаю, что это даже такая особая болезнь… Как вы думаете?






