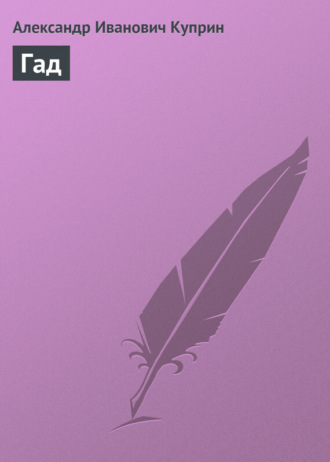
Александр Куприн
Гад
– Право, я не знаю. Может быть, и так.
– Словом сказать, всегда, среди самых спокойных дел, она вдруг исчезает и непременно кассу умыкнет, и нет от нее ни следа, ни гласа, ни послушания. И, как назло, налаживаются комбинации самые золотые. Но что поделаешь? Я уже без нее и врать не могу. Воображения не хватает. Привык… Разыскиваю ее – не найду. И нет и нет работы. Положение в городе становится совсем бамбуковое. Публика больше не ходит. Приезжает какой-нибудь паршивый неожиданный конкурент, и приходится, ночью, оставить чемоданы в гостинице, сунуть паспорт в боковой карман и бежать в первый попавшийся город.
Сначала все трепетал, что она меня не сумеет разыскать, писал в брошенную гостиницу свои адреса на открытках. Нет-таки. Точно чутьем каким собачьим разыщет, приедет – и опять весь город в наших руках. Сыпятся бешеные деньги.
Выкупаю чемоданы, фрак, ордена Гонолулского принца, ем ежедневно бифштекс и запиваю английским портером. Приходит она ко мне жалкая, излинявшая, часто подбитая, нетрезвая, но, увы, живучая, как кошка, быстро поправляется и входит в тон, и работает, ну просто как ангел. И так из города в город.
Провал и успех. Декокт и Валтасарово пиршество. Восторги публики и, не говоря ни с кем ни слова, плащом прикрывши поллица, марш по шпалам.
А тут как раз время подоспело удивительно горячее. Точно все люди сделались сумасшедшими. Прежде приезжаешь в город, как тать в нощи, не знаешь, кого куда поцеловать, чтобы разрешили. Случалось, ни с того ни с сего какой-нибудь чин вдруг покраснеет, да затопает на тебя ногами, да так зыкнет, что только едва-едва пролепечешь про себя молитву «Помяни, господи, царя Давида» и, как кузнечик, сиганешь в другой город.
И вот ни с того ни с сего, точно по мановению волшебного жезла, приезжаешь в какой-нибудь город, даже в губернский, и видишь, что перед тобой все лебезят. И становой, и ротмистр, иногда и сам полицмейстер, и городской голова, и уже непременно предводитель дворянства. Ну, положим, предводители все моты, страдают одышкой, раскладывают пасьянс, и жены бьют их туфлей по голове. Это уж как всегда. Дворяне.
Стоит мне только прийти и объявиться, позвольте мне, мол, афишки повесить, и тотчас забота необычайная:
«Позвольте, да мы… да вы… да, может быть, вам в этой гостинице неудобно?.. Да, может, прислуга неучтива?.. Да вы не беспокойтесь!..» Совсем как в бессмертной комедии господина Гоголя. Или как по-польски: «Може а? може цо? може вбды? може сядать?»
Я ничего не понимаю! Удивительное какое-то пошло время. Готовлюсь к завтрашнему сеансу: в цирке, в кинематографе, в семейных домах – не все ли равно? На всякий случай расспрашиваю у швейцара, у коридорного, у буфетчика о местных жителях. Они рассказывают охотно. Ведь все люди суеверны, а эти эфиопы видят во мне существо особенное. А уж что все люди сплетники – это абсолютная аксиома. Подумайте только: ведь я Гад! И уже я успел наврать им столько лестного и страшного, что они ходят как очумелые. И только издали глазами умоляют, такими влажными, собачьими глазами: «Милый, погадай еще разочек». Но нет. Мой принцип такой: в гостиницах служащим я гадаю бесплатно, но только один раз: пускай, мерзавцы, будут навсегда заинтригованы. Понимаете, окружаю себя этаким дымным облаком таинственности, но на чай даю хорошо.
И вот, ровно в два часа пополудни сижу я, полирую ногти и обдумываю, какой бы мне новый трюк запустить. Вы сами понимаете, что каждое искусство нуждается в разнообразии.
– Почему вы знаете, что я это знаю? – спросил я резко.
– Вот видите ли, – мягко возразил он, – ежели бы вы не задали мне этого вопроса, я не был бы уверен… А теперь я наверно скажу, что вы человек… какого-то… – он два раза щелкнул пальцами, – какого-то… искусства…
Широкополая шляпа, белый галстук, повязанный бабочкой, цветок в петличке, небрежная манера сидеть, уменье слушать… Для профессора вы молоды. Я бы сказал, что вы или писатель, или…
– Это неважно, – перебил я моего удивительного собеседника. – Ну, полировали ногти… разнообразие… дальше?
– Да. И вдруг бомбою влетает ко мне коридорный лакей: «Так что к вам сама генеральша, спрашивает вас!» Я вижу, что он трясется, и сейчас же его одной рукой за карчик, другой – пять рублей в зубы. «Что? Как? С кем? Когда? Сколько? Кому? Где? Дети? Слабости?» Он – как горохом сыплет. И вот сеанс. Густая вуаль. Духи самые лучшие. Мускус, амбра и крем деваниль… Сорок три, сорок пять, крайнее – пятьдесят лет… Я расшаркиваюсь: «Извините, графиня, я одет не так, как следует». И поднимаю воротник сюртука, как кибитку. «Прошу сесть! Чем могу служить?»






