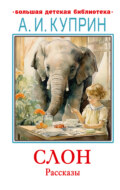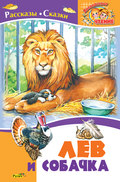Александр Куприн
Гемма
И король – ничего – промолчал. Так и творцы гемм… Они необыкновенно высоко ценили свое резное искусство и держали его на недоступной высоте. И надо сказать, что тогдашние князья церкви, как и князья мира, всячески любили, отличали, награждали и баловали их, не говоря уже о том, что часто прощали им великие прегрешения против всех десяти заповедей Господних.
Сохранился в преданиях один чрезвычайно характерный рассказ о Бенвенуто Челлини, величайшем резчике по всем металлам, минералам и камням и в то же время величайшем на свете проказнике, и о святейшем папе, не могу теперь вспомнить – Клименте, Павле, Сиксте или о каком-нибудь другом?
Случилось так, что, находясь на службе у строжайшего и властнейшего из пап, Бенвенуто Челлини уехал из Рима, не спросясь, без разрешения, и оставив все порученные ему работы недоконченными. Неизвестно было, по каким из прелестных итальянских городов носили его страсть к приключениям, любовь к жизни, ненасытно жадный темперамент и дьявольская вспыльчивость, но до Ватикана уже успели добежать темные глухие слухи о каком-то обиженном аббате, о похищенной у родителей девушке, о пропоротом шпагой боке завистливого и наглого конкурента. Но вот Челлини вернулся в Рим, с великим трудом добился разрешения предстать перед грозные очи папы. Со смущенной душою, но с обычным гордым видом вошел он в малый, интимный покой ватиканского дворца, где сидел святейший отец, окруженный ограниченным числом любимых кардиналов. Святейший отец уже давно накопил много гнева против Челлини в сердце своем. Поэтому он сразу накинулся на художника с укорами и бранью.
– Мессир Челлини, – сказал он, – вы уже давно своим мерзким поведением, неучтивостью и небрежностью перетянули ту слабую нить терпения, на которой висело наше благорасположение к вам, заставлявшее нас скрепя сердце прощать вам многие ваши гнусные преступления и ваш позорный образ жизни. В этой руке, – продолжал он, потрясая сжатым кулаком, – нередко лежали: ваша грязная честь и ваша жалкая жизнь. Но ныне – видите – я разжимаю пальцы и предоставляю вам падать в бездонную пропасть. Но прежде – и я на этом настаиваю – вы должны мне дать ясный и правдивый отчет в том, куда вы девали данные нами вам золото, серебро и драгоценные камни, предназначавшиеся для исполнения наших заказов. И, наконец, под страхом тяжелой кары за ложь, расскажите нам, какие причины заставили вас оставить Рим и что вы делали в своем долгом отсутствии?
Разгневанный папа умолк, но тут на свое горе льстиво сладким голосом вмешался приближенный кардинал князя церкви Строццо дель Пабло.
– Святейший отец наш, – сказал он, – как больно и как горько нам, вашим покорным рабам и верным служителям, созерцать неудовольствие и скорбь, омрачающие светлейшее чело великого Понтифекса, владыки всего христианского мира! И кто же явился причиною этого справедливого гнева? Презренный человек, низкого происхождения, мелкий ремесленник, именующий себя художником! О! эти художники! вечные посетители кабаков, друзья развратных девок, шумные буяны, кропатели злых эпиграмм, подонки общества, язычники, а не христиане.
Но в этот момент Челлини, успевший оправиться от страха, в который его повергла папская немилость, вдруг оставил свое место и большими шагами направился прямо к креслу великого первосвященника. В руках у него был прекрасной работы кипарисовый ларец, украшенный по краям и по углам изумительными серебряными узорами. Не доходя трех шагов до подножия кресла-трона, он остановился, стал на колени и протянул ларец к ногам папы.
– Слова его эминенции, синьора кардинала, – сказал Челлини ясным и приятным голосом, – были подобны мухам на стекле: мухи жужжат, они бьются о непроницаемую поверхность, они могут загрязнить стекло, но сделать ему они ничего не могут. Одна только воля святейшего отца моего может наказать меня или наградить. Здесь, в этом ларце, заключены и мое обвинение и мое оправдание. Судья же мне только его блаженное святейшество, князь церкви, папа Римский.