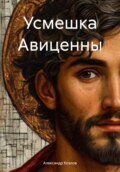Александр Козлов
Ангелина
Повесть
Новая авторская редакция с изменениями и дополнениями
Дизайн обложки – Яна Скрябикова
***
Было бы намного проще,
если бы люди внешне выглядели так же,
как выглядит их душа».
Иммануил Кант
Вступление
Зима – суровая, морозная и снежная – приходит властной и безжалостной царицей, окутывая землю ледяными объятиями. Мороз, кажется, пронизывает до самых костей, оставляя на щеках болезненные алые метки. Снег нещадно покрывает все вокруг белым саваном, скрывая под своей тяжестью последние признаки жизни.
Старый саманный дом заметно сдает под напором стихии: проседает и прогибается к земле под тяжестью обледенелого снега. Местами штукатурка осыпается, обнажая глиняное нутро, и сквозь щели в стенах в дом проникает холодный ветер.
Поздней ночью вьюга, до этого угрожающе завывавшая за окнами, внезапно приходит в неистовую ярость: обрушивается на дом со всей своей чудовищной силой, терзая стены и крышу бешеными порывами.
Дом содрогается, как в предсмертной агонии, стонет и жалобно скрипит. А потом раздается пронзительный треск, и восточная часть дома, где размещается маленькая кухонька, рушится, погребая под собой мечты о теплых вечерах и семейных ужинах.
Хозяин дома, грузный мужчина с добрым лицом, изрезанным морщинами, кричит жене: «Хватай дочку и беги наружу!», но слова его обрываются на полуслове – потолок с грохотом обрушивается, хороня несчастного под грудой глины, дерева и обломков. Его крик боли тонет в оглушительном гуле.
Снова раздается пронзительный треск, еще более страшный и зловещий. Разломы, похожие на гигантских червей, прогрызающих плоть, зигзагами устремляются по потолку в соседнюю комнату – туда, где в кроватке испуганно кричит трехлетняя малышка. В ее больших, полных слез, глазах отражается ужас происходящего…
Женщина, хрупкая и бледная, с копной растрепанных волос, бросается к дочери. «Ангелок!» – кричит она в отчаянии, но слова застревают в горле, скованные страхом. Трещины опережают ее – потолок шумно разверзается и угрожающе повисает над девочкой гигантскими острыми зазубринами.
Бежать, спасаться не остается времени!
Сердце матери сжимается от невыносимой боли, и она, не раздумывая, накрывает собой перепуганного ребенка. Следом посыпаются глыбы глины, куски дерева и обломки, обрушиваясь всей своей тяжестью на женщину. Она дико кричит, в ее вопле сливаются ужас, боль и материнская любовь; она даже слышит, как хрустит собственный позвоночник под непосильной тяжестью, и тут же умолкает, обмякает, как сломанная кукла. Стекленеющие глаза смотрят в никуда, больше не видя любимую дочку.
Неподвижность матери, ее искаженное от боли лицо пугают малышку еще сильнее; она зажмуривается, рыдает навзрыд…
А потом все стихает…
Вьюга постепенно стихает, завершив свою разрушительную миссию. Над руинами дома царит зловещая тишина, которую нарушает лишь безутешный плач маленькой девочки, погребенной под обломками в объятиях своей мертвой матери.
Вскоре все погружается в безмолвие, таящее боль, отчаяние и леденящий душу холод безысходности.
Проходит двадцать лет…
Глава первая
Звали ее божественно красиво – Ангелина, но природа поскупилась и не одарила бедняжку привлекательной внешностью. «Точно наспех слепили», – втихую подтрунивали над невзрачной девочкой воспитательницы в приюте.
С раннего возраста малышка стеснялась своей непривлекательности, чувствовала себя затерянной в тени и уже хорошо понимала, что не вызывает восхищения у окружающих. Зеркало – этот безмолвный свидетель ее страданий! – становилось для нее мучением, отражало не то, что хотелось увидеть, а то, что причиняло душевную боль, усугубляло внутреннюю дисгармонию. Она избегала его, как больной – врача, боялась столкнуться с собственным отражением, как будто в нем таился злой дух, нашептывающий страшные слова.
Ангелина жила в мире, будто сотканном из осколков разбитого зеркала. Каждый осколок отражал ее недостатки, реальные и мнимые, многократно увеличивая их в ее глазах. Приют, казенное учреждение, призванное дарить тепло и заботу, стал для нее ареной постоянных унижений. Дети, ожесточенные и несчастные, вымещали на ней свои обиды, словно она была громоотводом для их накопившейся злости.
Особенно запомнилась ей Машка – коренастая девчонка с веснушками, рассыпавшимися по лицу, как брызги грязи. Машка и ее «свита» любили подкарауливать некрасивую девочку после уроков.
– Эй, сиротка! Где твои родители? – злорадно кричала Машка, и ее голос эхом отдавался в коридоре, заставляя Ангелину съеживаться от стыда и боли.
Однажды Машка вырвала из ее рук единственную куклу, старую и потрепанную, но бесконечно дорогую Ангелине. Кукла упала на пол, и Машка со своими подружками принялись пинать ее со всей силой, хохоча и приговаривая:
– Вот тебе подарочек! А папочка и мамочка пусть из могилы смотрят!
Ангелина стояла, оцепенев, слезы текли по ее щекам, но она не могла произнести ни слова. В тот момент ей казалось, что мир рухнул, погребая под обломками ее крошечную душу. Кукла была единственной ниточкой, связывающей ее с прошлым, с миром, где безраздельно царили любовь и забота. Теперь же эта ниточка оборвалась, оставив после себя лишь зияющую, пронзительно леденящую пустоту.
Другие дети не относились к ней настолько жестоко, но их равнодушие ранило не меньше. На общей трапезе Ангелина всегда старалась сесть в самый дальний угол, чтобы не привлекать внимания. Но даже там находились те, кто бросал в ее сторону презрительные взгляды или шептался за спиной.
– Смотрите, какая зачуханная, как будто из помойки вылезла! – слышала обрывки фраз, и ее щеки заливались краской стыда. Девочка ощущала себя грязной и недостойной, словно клеймо сиротства навсегда отделило ее от остальных детей. Большинство из них проходили здесь реабилитацию, а у некоторых – родителей лишили прав на воспитание.
Внутри нее жил маленький, испуганный зверек, постоянно прячущийся в темном уголке. Каждое обидное слово, каждый злой взгляд причиняли ей нестерпимую боль. Она научилась сдерживать слезы, глотать обиду, но внутри все клокотало от отчаяния; мечтала стать невидимой, чтобы исчезнуть, чтобы ее оставили в покое.
Со временем Ангелина замкнулась в себе: перестала мечтать и надеяться. Одиночество стало ее единственным убежищем, ее крепостью, защищающей от жестокого мира. Девочка перестала верить в доброту, в любовь, в то, что когда-нибудь ее жизнь изменится к лучшему.
Она смотрела на мир сквозь тусклое стекло, не видя ярких красок, не слыша радостных звуков. Мир казался ей серым и безрадостным, населенным бездушными людьми. Ангелина тихонько угасала, как маленький огонек, которому не хватает воздуха. В ее глазах поселилась тихая грусть, отражавшая всю глубину одиночества и безысходности. Она больше не ждала чуда, не надеялась на спасение, а просто жила, день за днем, в ожидании неизбежного конца. И даже в своих снах не видела солнца, не смеялась, ни с кем не дружила. А наяву – только серые стены приюта и лица, искаженные злобой и насмешками. И тихий, едва слышный шепот: «Никому не нужна! Никому!»
Постепенно Ангелина приняла эту мысль как данность, и чувство «никомуненужности», опустошающее и леденящее сердце, стало ее постоянным спутником, тенью, что неотступно следовала за ней по пятам. Она больше не боролась, не пыталась вырваться из этой клетки, а лишь тихонько угасала, как догоревшая свеча оставляет после себя слабый запах горечи и несбывшихся надежд.
Шли годы – тянулись, как нити из веретена судьбы, неумолимо сплетая гобелен жизни. Вокруг нее, словно бутоны весенних роз, раскрывались ровесницы. Щеки алели румянцем влюбленности, глаза искрились предвкушением счастья. Вскоре каждая из них находила свою половинку, своего спутника жизни, создавая уютные гнездышки семейного очага. А ее, Ангелину, тихую и незаметную, растворенную в серости будней, казалось, не замечал никто. Купидоны, озорные проказники, будто сговорившись, посылали свои стрелы мимо, оставляя ее сердце нетронутым, в томительном ожидании чуда.
Время – безжалостный скульптор – лепило из девичьей нежности черты взрослеющей женщины. В морщинках, едва заметных в уголках губ, читалась усталость, а в задумчивом взгляде – отражение пережитых тревог. Но в глазах окружающих она оставалась все той же «женщинкой», хрупкой фарфоровой куколкой с детским личиком и неизменно грустными, припорошенными пеплом отчуждения, глазами.
Ее неприметность служила ей и проклятием, и защитой. Мужчины, скользя взглядом, не задерживали его надолго, не замечая за внешней оболочкой настоящую Женщину. А внутри нее бушевали страсти, похожие на дремлющий вулкан, готовый взорваться лавой любви. Она мечтала о любви – страстной и всепоглощающей, способной утолить ее жажду быть кому-то нужной. Однако этот огонь томился в одиночестве, запертый в темнице ее скромной и подавленной натуры.
Годы тянулись медленно, как патока, оставляя на сердце незаживающие рубцы от оскорбительного равнодушия. Ангелина научилась прятать свою боль, но она, как тень, преследовала ее повсюду. Молодая женщина мечтала о сильном мужском плече, о надежном пристанище, где можно было бы забыть о тяготах жизни. Но судьба, казалось, оставалась глухой к ее мольбам, слепой к ее слезам и страданиям.
Один, правда, вскорости нашелся – бобыль, красивый, как языческий бог, но беспутный, как перекати-поле. По поселку о нем ходили легенды, сплетенные из амурных похождений и разбитых женских сердец. О нем говорили шепотом, осуждали за легкомыслие и ветреность, но втайне завидовали его свободе и неуловимому шарму.
Ангелина, привыкшая к равнодушию, не смела и мечтать о внимании Михаила, хотя знала о его репутации и ненасытной жажде приключений. Ей казалось, что она, серая мышка, не достойна даже мимолетного взгляда этого херувима с гнильцой внутри.
Но судьба, полная иронии и неожиданных поворотов, распорядилась иначе. Даже он, казалось, обратил на нее внимание только от безысходности: в селе ни одна незамужняя женщина не рискнула бы связать с ним свою судьбу.
– Уж лучше в девках помереть, – смеялись они, – чем за такого замуж выйти!
Михаил призадумался всерьез. Время неумолимо подгоняло, напоминая о годах, уходящих в прошлое, и о необходимости обзавестись семьей, чтобы не коротать остаток дней в одиночестве, как старый пень, забытый в глухом лесу.
Да и от людских пересудов, от косых взглядов, порой ранящих сильнее ножа, хотелось схорониться за стеной брака. «Замутил женитьбу», как говорили в народе, не от пылкой любви, не от головокружительной страсти, а от холодной расчетливости, от страха остаться одному.
Он увидел в девушке тихую пристань, спокойную гавань, где можно было бы переждать бурю жизни. Страсти и огня в ней, разумеется, не искал – ему нужна была лишь покорность и тихая преданность. Ему нужна была жена: хозяйка в доме, мать будущих детей, а не возлюбленная, с которой можно было бы делить радости и печали.
И Ангелина, измученная одиночеством, уставшая от равнодушия окружающих, согласилась. Она знала, что он не любит ее, что его предложение – лишь вынужденный шаг. Но искренне верила, что сможет завоевать его сердце своей заботой, преданностью и любовью, которая годами томилась в ее груди, готовая излиться на того, кто хотя бы немного позволит ей приблизиться. Верила, что любовь способна творить чудеса – исцелить даже самое израненное сердце.
Как-то во время вечерней прогулки по центру села, когда они для людей изображали будущую подвенечную пару, Михаил остановился и неожиданно спросил ее:
– Чего тебе хочется больше всего?
Этот вопрос застал ее врасплох. Она сначала растерялась, но потом наспех собрала мысли в кучку и ответила тихо, пряча глаза:
– Детей хочу, семью настоящую…
– А-а, вот оно что! – рассмеялся Михаил в голос. – Значит, любишь это дело, да?
Ангелина вся зардела, не зная, куда девать глаза, руки, ноги…
– Али в девственницах еще засиделась? – его насмешливость хлестнула ее обжигающей пощечиной. Он протянул к ней руку и почти дотронулся до груди, но почему-то передумал, обхватил ее за тонкую талию и притянул к себе настолько близко, что она ощутила на своем пылающем лице его дыхание, слегка подернутое перегаром. – Да ты не боись, у меня в таких делах опыт богатый – враз снимаю пломбы!
От этих слов ее внутри всю перевернуло. Ангелина высвободилась из его объятий и быстрым шагом пошла обратно, почти побежала. А он за ней вдогонку, смеялся, извинялся, говорил, что пошутил, потому что «здесь все так шутят». Позже, успокоившись, ей самой показалось, что напрасно погорячилась – могла бы свой «отворот-поворот» в другой раз продемонстрировать. Подумала вдруг, понадеялась, что ей удастся разжечь в его душе угасающий огонь и растопить лед его равнодушия. И пусть ее решение было отчаянным, почти безумным, но она готова рискнуть всем, чтобы обрести хотя бы видимость счастья!
Поэтому, не раздумывая вовсе, вступила в этот брак, как в омут, с головой, не зная, что ждет ее впереди: тихая семейная жизнь или горькое разочарование. В ее груди теплилась надежда, слабая, как мерцающий огонек свечи, но все же дающая силы двигаться вперед, к своей долгожданной мечте – стать кому-то нужной. Надеялась в глубине души, что однажды он увидит в ней не «женщинку», а настоящую Женщину, способную любить и быть любимой, и полюбит ее так, как она мечтала всю свою жизнь.
– Ой, не ходи за него – пожалеешь, – предупредила девушку одна сердобольная пенсионерка, которой Ангелина носила почту. – Хоть и вымахал в два метра красоты, только мозгов у Мишки нету, обо всем мать кумекает, а у него все помыслы промеж ног. С кем он здесь только ни тягался, к какой только девке не старался пригреться, да так никому в мужья и не спонадобился. Вот и с норовом ему тоже не шибко повезло.
Старушка осторожно взяла ее под руку, приблизилась почти вплотную и произнесла заговорщицким тоном:
– А потому, говорю, послушай меня, старую, – не ходи за него, всю жизнь сопли на кулак мотать будешь!
Глава вторая
Привередничать, понятно, Ангелине не приходилось: жизнь не баловала ее шелками и кружевами, не предлагала выбор между принцем и герцогом. Судьба просто подсунула Михаила, как занозу под ноготь, как неизбежность, от которой не увернуться. И девушка, уставшая от вечной борьбы за кусок хлеба и теплое место под солнцем, не стала сопротивляться.
Дело с замужеством за Михаила и правда не застопорилось. Все устроилось с поразительной, пугающей легкостью и скоростью. Пара натянутых встреч, как будто примерка к чужой жизни. Заявление в ЗАГС – сухой клочок бумаги, подписанный рукой, дрожащей не от волнения, а от усталости. А потом – свадьба. Не пир на весь мир, а невеселая посиделка во дворе дома Михаила, за тремя сколоченными на скорую руку столами. Свадьба, где вместо искренних поздравлений звучали пьяные выкрики, а вместо музыки – хриплый баян, наигрывающий что-то тоскливое и безнадежное, словно похоронный марш по мечтам. Зато…
– …живая музыка куда лучше всякой белиберды эстрадной! – решили организаторы свадьбы.
Ангелина сидела, как в коконе, отгородившись от шума и суеты. В голове, словно надоедливая муха, крутилась одна мысль: «Неужели это и есть теперь моя жизнь?». Она смотрела на Михаила, сидящего рядом, разгоряченного водкой и чужими взглядами. Молодые женщины (наверное, бывшие подружки) кокетничали с ним, нисколько не стесняясь ее присутствия. В его глазах плескалась похоть, грубая и неприкрытая. И Ангелине стало страшно. Страшно не от Михаила, а от самой себя: от того, что позволила себе так легко сдаться, от того, что променяла надежду на тихое отчаяние и безмолвное подчинение.
Потом наступила первая брачная ночь. Ангелина вошла в спальню, словно на казнь. Михаил уже ждал ее в чем мать родила, распаленный и нетерпеливый. Глядел на нее похотливо и бесстыдно, цинично демонстрируя свою готовность. Она закрыла глаза, пытаясь мыслями убежать от надвигающегося кошмара. Вся его внешняя красота, которая произвела на нее неизгладимое впечатление при первой встрече, стала для нее сейчас отвратительной, отталкивающей. Едва сдержала крик, когда он грубо схватил ее за запястье:
– Чего стоишь, как дура какая-то? Быстро пошла сюда – делами пора заниматься! – и рывком притянул к себе…
От той ночи у нее осталось воспоминание, омерзительное и вязкое, как грязь, прилипшая к подошвам. Озверелость пьяного мужа, грубая сила, не оставляющая места для нежности или ласки. Как же долго и мучительно все это продолжалось! В ее голове потом не укладывалось, как ей удалось выдержать все это неистовство: дерзкие прикосновения, причиняющие невыносимую боль, мощное и непостижимо глубокое проникновение, длившееся, казалось, вечность, и дикие, нечеловеческие вопли удовлетворения, которые оглушали и сводили с ума. В течение всего этого кошмарного буйства она чувствовала себя сломанной куклой, разорванной на части и выброшенной на помойку. А потом – жуткий, утробный храп, прорезающий тишину глухой ночи; храп, ставший символом ее новой жизни, жизни без любви, надежды и будущего.
Ангелина лежала в темноте, ощущая себя мертвой, погребенной в склепе собственных надежд. Тело, которое недавно дрожало от предвкушения близости, теперь казалось чужим и невыносимо грязным. Слезы катились по щекам, обжигая кожу, но не смывали въевшийся в каждую клеточку ужас. Они были слабым, безмолвным протестом против той непоправимой мерзости, что обрушилась на нее в первую брачную ночь.
Комната давила гнетущей тишиной, будто сговорившись молчать о случившемся, делать вид, что ничего не произошло. Но в голове Ангелины бушевала буря: каждое воспоминание болезненно врезалось острым осколком стекла, разрывая и без того израненное сердце. Мечты, которые еще вчера казались такими яркими и вдохновляющими, теперь казались насмешкой, жестокой иронией судьбы. Она чувствовала себя обманутой, выпачканной в грязи, преданной мужем и самой жизнью.
– Дура… Я и правда дура! – шептала беззвучно, задыхаясь в слезах.
Слова застревали в горле, душили, как петля. Как могла она быть настолько наивной и слепой? Как могла поверить в чудеса, когда вокруг царила только суровая, безжалостная реальность? Ведь жизнь не раз учила ее, швыряла в самые отчаянные ситуации, закаляя волю и укрепляя веру в собственные силы!
Внутри клокотала смесь отвращения и вины: отвращения к прикосновениям, к взгляду, к самому факту существования этого человека, который лежал сейчас рядом, погруженный в непробудный сон; вины за то, что не смогла защититься, за то, что позволила случиться всему этому унизительному кошмару. Выходит, сама виновата в том, что произошло, спровоцировала его на такое жестокое поведение?
В тот момент Ангелина еще не знала, что впереди ее ждет долгий и мучительный путь – путь к исцелению, прощению и возвращению к самой себе, путь, усыпанный осколками разбитых иллюзий и отравленный ядовитым чувством вины. Она еще не догадывалась, сколько сил и мужества потребуется, чтобы выжить и не сломаться под тяжестью этого кошмара. Но где-то в глубине души, за слоем боли и отчаяния, теплилась крошечная искорка надежды на то, что когда-нибудь она сможет снова почувствовать себя целой, полюбить и быть любимой. И вот тогда погребенная заживо Ангелина вновь воскреснет в ней и обретет новую жизнь.
Глава третья
Свекровь Варвара Прокопьевна, прославленная в райцентре бузотерка и сплетница, узрела в девушке некую отдушину – нишу, в которую и сбагрила непутевого, хотя и безумно любимого сына. Сварливая старуха сразу показала свой норов: даже не пыталась понравиться снохе, напротив, считала, что удостоила ту высшей благодати – выдала замуж за сына-оболтуса, и в первый же день после свадьбы отчитала за неправильно сложенную в сушилке вымытую посуду.
Варвара Прокопьевна стояла у кухонного окна, наблюдая за тем, как сноха развешивает белье во дворе. На всю округу старуха славилась своим острым языком и неуемной энергией, направленной в основном на перемывание костей соседям и выяснение отношений по любому пустяку.
И вот теперь эта бузотерка обрела в Ангелине, как ей казалось, идеальную мишень. Не то чтобы она ненавидела девушку. Нет, ненависть – чувство слишком сильное и требует больших затрат энергии. Скорее, Варвара Прокопьевна видела в ней возможность переложить часть бремени заботы о непутевом сыне, Мишенке, на чьи плечи никак не желали ложиться ответственность и серьезность. Сына, конечно, любила, до безумия, слепо, вопреки всему. И только она одна видела в нем «золотое сердце», скрытое под слоем лени и бесшабашности.
– Ты это что творишь, а? – рявкнула Варвара Прокопьевна, ворвавшись на кухню.
Ангелина вздрогнула от неожиданности.
– Я… посуду помыла и в сушилку поставила, – пролепетала она, не зная, куда спрятать глаза и спрятаться самой.
– В сушилку, значит? – презрительно скривилась Варвара Прокопьевна. – Да ты хоть знаешь, как правильно посуду-то ставить? Вилки ты куда воткнула? Не туда! Надо зубцами вверх, чтобы вода стекала, а не в зубцах застаивалась! И тарелки у тебя слишком плотно друг к другу стоят! Не просохнут – заведется плесень, и тогда, считай, хана посуде!
Ангелина с трудом сглотнула подступивший к горлу ком, изо всех сил стараясь сдержать слезы.
– Но я… я просто хотела помочь, – прошептала она.
– Помочь она хотела! – передразнила Варвара Прокопьевна. – Помощь твоя – только вред один! Лучше бы за собой смотрела! Посмотри на себя – как ворона напугала: ни прически, ни макияжа! Мужику-то своему как угождать собираешься? Одной своей дыркой других баб не отвадишь!
Ангелина покраснела до корней волос. Слова свекрови ранили ее, как острые иглы. Она вдруг ясно поняла, что никогда не сможет угодить этой пропитанной желчью женщине.
– Варвара Прокопьевна, – тихо сказала она, стараясь сохранять спокойствие, – я… я буду стараться. Просто пока не знаю, как вы привыкли…
– Стараться будет! – фыркнула старуха, наслаждаясь своей властью и покорностью «мишени». – Знаю я ваше «стараться»! Только обещаете! А делать-то кто будет? Я, что ли? Нет уж, голубушка, теперь это твой дом тоже. Так что сразу приучайся делать все как надо! Неженкам в моем доме не место! – с этими словами Варвара Прокопьевна демонстративно переставила посуду в сушилке, с грохотом отодвинула стул и вышла из кухни, оставив невестку в полном смятении.
Ангелина смотрела на переставленную посуду, на блестящие капли воды, стекающие по тарелкам, и чувствовала себя маленькой, никчемной, совершенно не готовой к этой новой, сложной жизни. Она еще смутно догадывалась, что впереди ее ждет долгая и трудная борьба за свое место в этом доме, борьба не только за сердце мужа, но и за уважение этой сварливой, властной женщины, которая, казалось, решила превратить ее жизнь в ад. И, возможно, самое страшное было в том, что Михаил не особо-то и собирался ее в этой борьбе поддерживать. Он, похоже, слишком привык ощущать себя вечным ребенком, которого всегда любила и оберегала его мать, чтобы взять на себя ответственность за защиту своей жены.
Дальше – хуже. Варвара Прокопьевна, упиваясь собственной властью, превращала каждый день молодой женщины в изощренную пытку. Придирки стали ее любимым развлечением: не так поставила чашку, не той тряпкой протерла пыль, недостаточно белоснежной скатертью стол накрыла. Поводом для взрыва мог стать любой, самый незначительный пустяк.
Оставаясь наедине со снохой, свекровь срывалась на безудержную брань, обрушивая на нее потоки грубых, нецензурных слов. Ее лицо, испещренное сетью морщин, искажалось от злобы, глаза метали молнии. Ангелина, съежившись, пыталась спрятаться в себя, но ядовитые стрелы оскорблений находили ее повсюду.
Но стоило появиться на пороге Михаилу, как происходила невероятная метаморфоза. Злобная фурия превращалась в образец добродетели и педагогического совершенства. Голос, минуту назад изрыгавший проклятия, становился слащаво-медовым, речь – напыщенной и нравоучительной. Варвара Прокопьевна изливалась с такой помпой, как будто всю жизнь только и проводит в окружении аристократов и педагогов.
Ангелина с горечью наблюдала этот спектакль, осознавая, что муж слеп к истинной сущности своей матери. Михаил видел лишь фасад – идеальную мать, заботливую хозяйку, мудрую советчицу. Он не хотел даже задумываться о той тьме, что скрывалась за этой маской, не верил никаким слухам.
В углу, всегда в сторонке от мирской суеты и семейных дрязг, обитал старый свекор. Его лицо, иссушенное ветрами и заботами дворового хозяйства, было испещрено глубокими морщинами. Он видел и слышал все: слышал язвительные выпады Варвары Прокопьевны, видел страдания своей жены. Но молчал. Годы жизни со вздорной супругой научили его осторожности. Понимал, что любое вмешательство только усугубит ситуацию, превратит его в еще одну жертву своей склочной супружницы. Старик давно усвоил правило: держаться подальше от распрей, в коих она непременно была зачинщицей и завсегда выходила победительницей.
С каждым днем Ангелина все больше убеждалась в своей беспомощности. В этом доме никто не мог ее защитить. Михаил ослеплен, свекор запуган. Она оказалась один на один с женщиной, которая день за днем методично уничтожала ее личность.
Призрачное счастье, на которое она так надеялась, с первых дней семейной жизни растворилось в безрадостных буднях. Каждый новый день походил на предыдущий – череда придирок, оскорблений и унижений. Ангелина все глубже погружалась в себя: душа ее угасала, взгляд тускнел, вера в лучшее обращалась в пар. В ее сердце поселился холод, и она все чаще задавалась вопросом: а сможет ли выжить в этом аду? Сможет ли сохранить хоть что-то от себя, от той себя, которая когда-то мечтала о любви и счастье? Или навсегда останется жертвой старой склочницы, запертой в клетке собственной ненависти и злобы?
А еще безумно раздражало старую Варвару Прокопьевну то, что жить приходилось в одном дворе – в волости, где каждый сантиметр, по гордому заявлению старухи, принадлежал ей одной. Молодые поселились в доме, чтобы, по словам свекрови, «соседи языками не трепали», а старики перешли во флигелек – добротный, двухкомнатный, с печным отоплением. Но все равно ощущала себя на правах приживалки – вроде бы и хозяйка в доме, а ютится, как несушка, в сарае. Казалось, ничто не способно было умилостивить «владычицу» – ни покорность и трудолюбие молодой снохи, ни появление на свет внука.