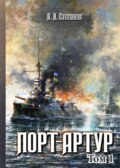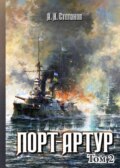Александр Николаевич Степанов
Семья Звонаревых. Том 2
Глава 4
В начале июля 1914 года в Петербург прибыл, наконец, президент Французской республики Раймон Пуанкаре[8]. Это был его второй визит в столицу Российской империи. Два года, отделявшие первый визит от второго, бывший адвокат вёл кипучую деятельность по подготовке войны против Германии, укреплял франко-русский военный союз, чем и снискал себе мрачное прозвище «Пуанкаре-война». Он знал, что его воинственный пыл импонировал крупной буржуазии и клерикалам, и поэтому с особым рвением старался разжечь мировой пожар. Это усердие помогло ему занять пост премьер-министра, а затем стать и президентом.
В рамках деятельности русско-французского союза дважды бывал в России с официальным визитом в 1912 и 1914 годах. Основное событие его президентства – Первая мировая война, сторонником которой он считался, всегда ратовал за антинемецкие отношения.
В годы англо-французской интервенции в Советской России были популярны демонстрации с плакатами: «Лорду – в морду!» (про Керзона) и «Пуанка́ре – получи по харе!»
Не удивительно поэтому, что приезд Пуанкаре в Россию совпал с самым разгаром рабочих волнений в Питере. Добрая половина столичных заводов и фабрик бастовала, на улицах строились баррикады. Забастовал военный завод, на котором работал Звонарёв.
Утром, придя на работу, Звонарёв был поражён непривычной картиной. Обычно в рабочее время заводской двор не отличался многолюдием. Изредка пройдёт мастер в контору или заглянет бригадир, шмыгнёт уборщица или рабочий по своей надобности, и снова пустынно, лишь доносится из рабочих корпусов лязг, скрежет станков, завывание электромоторов.
А сегодня Звонарёв остановился в изумлении. Большой заводской двор был полон людей. Рабочие стояли группками, сидели, прислонясь к пустым бочкам или забору, курили, горячо, но не громко разговаривали, спорили.
«Забастовка, – пронеслось в голове Звонарёва. – Не ко времени. У нас срочный заказ».
Увидев инженера, рабочие замолчали, настороженно, недружелюбно поглядывая на него. «Хоть ты и не вредный человек, – читал Звонарёв в этих взглядах, – не ругатель и мы на тебя не обижаемся, но всё-таки ты не наш брат рабочий, а чужак. И настоящей веры тебе нету».
Заметив знакомого рабочего Фомина, Звонарёв остановился и спросил:
– Бастуете, что ли, Фомин?
– Бастуем, господин инженер! Вот дожидаемся генерала. Хотим с ним потолковать. Да не только мы бастуем. Почитай, половина Питера сегодня встала.
В это время в проходной раздался звучный, по-хозяйски властный голос Тихменёва. Дверь распахнулась и показалась пятящаяся задом, согбенная в низком поклоне перед генералом фигура Вьюнова.
Тихменёв быстро, не глядя на рабочих, направился к управлению завода. Заметив стоявшего с рабочими Звонарёва, генерал остановился. Инженера поразило взволнованное лицо генерала, его напряжённые глаза.
– Бастовать вздумали, голубчики? – обратился он к стоявшему неподалёку Фомину. – Не ко времени. Ничего хорошего из этого сейчас не выйдет. Это вам не девятьсот пятый год.
Фомин вышел вперёд и, спокойно остановившись перед генералом, подал ему сложенную пополам бумагу.
– Наши требования, Ваше превосходительство.
Голубые умные глаза Фомина спокойно выдержали сердитый взгляд Тихменёва, который словно говорил: «Ты у меня ещё попляшешь! Расправимся с такими по всей строгости». – «Ты нам не грози, мы не из пугливых, – будто ответили глаза рабочего, – тебя мы не боимся».
Предложив Звонарёву взять бумагу, генерал прошёл в управление.
В кабинете, расстегнув ворот кителя, он принялся читать бумагу. Возмущению его не было границ, когда он бегло ознакомился с требованиями рабочих.
– Чуют, что в воздухе пахнет войной. Узнали, что приехал Пуанкаре. Соображают… Обратили внимание, – он взглянул на Звонарёва, – какие глаза у этого рабочего, что говорил со мной? Умница! Спокойный, выдержанный, за собой чувствует силу.
Тихменёв плюхнулся в кресло и ещё раз пробежал глазами бумагу.
– Вы подумайте только, что они пишут: увеличение расценок в связи с новым заказом, выплата по болезни, ликвидация «чёрных списков», свобода собраний и сходок, открытие вечерней школы для рабочих… Нет, это уж слишком.
Второй день Звонарёв вместе с Тихменёвым вели переговоры с делегациями рабочих по поводу их требований. Вполне сочувствуя рабочим, Сергей Владимирович пытался склонить Тихменёва на некоторые уступки. Генерал и слушать не хотел. До хрипоты в голосе он доказывал полнейшую неприемлемость требований рабочих.
– Зачем нам спорить и толочь воду в ступе? – сказал ему Звонарёв на второй день забастовки. – Давайте представим начальству все требования рабочих, что принять и что отклонить.
– Что вы, что вы! – ужаснулся Тихменёв. – Если мы сделаем это, нас с вами выгонят с завода. Только подумать: восьмичасовой рабочий день и увеличение расценок на пятьдесят процентов! Ведь это требование девятьсот пятого года! А у нас, слава богу, тысяча девятьсот четырнадцатый, и за нашей спиной не Маньчжурия, а третьеиюньская Государственная дума.
– …Со столыпинским галстуком[9] и казачьей плёткой, – напомнил Звонарёв.
Тихменёв замотал головой.
– Сергей Владимирович, вы, право, несносный человек!
– А то, что творится на заводе, сносно? – иронически спросил Звонарёв. – Военный завод – и вдруг бастует в момент приезда столь высокого гостя, как французский президент.
– Да это же не только у нас, чёрт побери! – воскликнул Тихменёв.
– И тем не менее нам надо без шума и как можно скорее урегулировать все эти вопросы, – настаивал Звонарёв.
После долгих колебаний Тихменёв отважился последовать совету Сергея Владимировича и отправился с докладом к начальнику Главного артиллерийского управления. Вернулся он через два часа в приподнятом настроении и, вызвав к себе Звонарёва, объявил, что начальство, учитывая визит французского президента в столицу, нашло возможным удовлетворить некоторые требования рабочих военного завода.
– Верите, у меня будто гора с плеч свалилась, – признался Тихменёв. – Поручаю вам сообщить рабочим о наших уступках, и пусть сегодня же приступают к работе.
Звонарёв с удовольствием выполнил это поручение. Забастовка на заводе прекратилась. Тихменёв окончательно успокоился. Вечером, после обхода оживших цехов, он сказал Звонарёву:
– Ну, слава богу, всё обошлось для нас без неприятностей. Теперь можно и развеяться. В Главном артуправлении я получил два пригласительных билета на «Зарю с церемонией», которая состоится завтра вечером в Красносельском лагере по случаю визита Пуанкаре. Не хотите ли составить мне компанию? Моя жена заболела, и один билет свободен.
– Не до церемоний мне сейчас, Павел Петрович! – вздохнул Звонарёв. – Жена всё ещё в тюрьме. Какие уж тут развлечения!
Тихменёв отнёсся к его отказу неодобрительно:
– А я бы на вашем месте обязательно воспользовался возможностью побывать там.
– Зачем? – Звонарёв непонимающе взглянул на генерала.
– Чудак вы, право, – заметил с улыбкой Тихменёв. – Там будет царь с семейством, двор, Пуанкаре и весь влиятельный бомонд. Поверьте, ваше присутствие в таком обществе наверняка бросится в глаза жандармам. Наденьте военную форму со всеми регалиями. Медаль за русско-японскую войну и значок за оборону Порт-Артура. Ну, а рядом с вами буду я, генерал, обвешанный крестами, медалями, с лентой Станислава 1-й степени через плечо[10]. Каково, а?
«А, пожалуй, есть смысл поехать с ним! – подумал Звонарёв. – Чем чёрт не шутит, может быть, и впрямь это поможет…»
Глава 5
На следующий день в установленный час Сергей Владимирович, облачённый в военный мундир, прибыл на Балтийский вокзал и встретился с Тихменёвым, картинно наряженным в генеральскую парадную форму. Все вагоны первого класса были переполнены разодетыми дамами, генералами и придворными.
В купе стояла духота, и Тихменёв со Звонарёвым предпочли остаться в коридоре у открытого окна. Именитые пассажиры говорили преимущественно на французском языке. Французские анекдоты, французские салонные шутки, изысканные обращения, манеры, жеманный смех дам и девиц. Ничего русского, всё на чужеземный лад.
– Эх, наша матушка Русь! – с искренней горечью сказал Тихменёв. – Русского слова здесь не услышишь.
Звонарёв промолчал.
– Речь французская, а нищета русская, – усмехнулся генерал. – Где-нибудь в Париже или, скажем, в Брюсселе вся придворная знать на собственных автомашинах разъезжает, а наша – в поезде или в допотопных экипажах.
«Какая всё это мерзкая шваль! Ненавижу, ненавижу! – со злостью и отвращением думал Звонарёв, глядя на парадных, надушенных генералов, на их затянутых в корсеты жён, обсыпанных бриллиантами. – И этим людям дано право карать и миловать! От них зависит судьба Вари, моя судьба, наше счастье… Почему они здесь, на свободе, живут, веселятся, сплетничают, а Варя находится, страшно подумать, в сырой камере, бог знает с кем – с ворами, проститутками… Где же справедливость?»
Звонарёв прислушался к монотонному перестуку колёс, в котором вдруг отчётливо услышал: «Под-ле-цы, под-ле-цы…».
– Подлецы! – выдавил сквозь зубы Звонарёв.
– Пардон, не расслышал. Это вы мне? – спросил, наклонив голову, Тихменёв.
– Простите, ваше превосходительство. Не вам.
* * *
Красносельский военный лагерь располагался вблизи железнодорожной станции. Он был оцеплен солдатами. В местах проезда стояли жандармские офицеры, которые внимательно проверяли документы и пригласительные билеты.
Тихменёв представил Звонарёва как своего адъютанта, и они вместе прошли к небольшому помосту, откуда была хорошо видна вся передняя линейка лагеря. На помосте толпились придворные дамы, министры, генералы. Невдалеке, примыкая к передней линейке, возвышался земляной валик, покрытый сочной травой. На нём был разбит шатёр для царя и его семейства. Валик охранялся казаками-конвойцами. Перед шатром стояли лёгкие стулья и кресла.
Вдоль передней линейки уже были выстроены гвардейские полки. На правом фланге – преображенцы, рядом с ним – семёновцы, далее – первая артиллерийская бригада, измайловцы[11] и егеря. Затем стояли полки второй гвардейской дивизии и гвардейские стрелки. На правом фланге полков развевались старые заслуженные полковые знамёна, бывшие под Полтавой и Бородином, тут же располагались полковые оркестры. Яркий блеск медных труб, шёлк знамён, и всё это на фоне зелени, голубизны небес. Над лагерем плыл несмолкаемый говор многолюдной праздной толпы.
Звонарёву особенно понравились гвардейцы – рослые, загорелые, сильные, чем-то схожие с былинными богатырями. Он поделился своим впечатлением с Тихменёвым.
– Ещё бы! – воскликнул тот. – Ведь здесь собран цвет русской нации. По всей России в гвардию отбирают высоких, могучих и красивых людей. В первой роте Преображенского полка нет солдат ростом ниже ста восьмидесяти сантиметров. А первый взвод сплошь выше сажени. Далеко не всякая страна может похвастаться такими молодцами!
Публика прибывала. Звонарёв увидел начальника Главного артиллерийского управления генерала Кузьмина-Караваева[12], высокого статного старика, бросавшегося в глаза своей незаурядной внешностью и выправкой. Рядом с ним шагал его брат – адвокат, – в белом парадном фраке и блестящем чёрном цилиндре на голове.
Вскоре на дороге, ведущей к главному лагерю, показалась группа всадников во главе с великим князем Николаем Николаевичем – главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа. Его сопровождали командир гвардейского корпуса генерал Безобразов[13], несколько адъютантов и ординарцев.
Над лагерем пронеслась зычная команда командира преображенцев генерала графа Игнатьева[14]:
– Стано-о-вись!
С 1941 проживал в Муроме. В 1943 году пенсия была восстановлена. 18 ноября 1944 г. награждён орденом Ленина с формулировкой «за многолетнюю службу и выдающуюся деятельность в области развития русской артиллерии», но вернуться в северную столицу разрешено не было.
Полки замерли в полной неподвижности. Говор утих. Всё внимание толпы было сейчас приковано к приближающейся кавалькаде.
– Слу-у-шай, на кара-ул! – скомандовал Игнатьев.
Солдаты дружно вскинули винтовки с острыми сверкающими штыками, оркестры заиграли марш. Великий князь, сухопарый, подтянутый, будто слитый с конём, подскакал к правому флангу Преображенского полка и громко поздоровался с солдатами. Те ответили на приветствие единым могучим голосом – чётко, строго размеренно. Воздух содрогнулся от их дружных, громких выкриков.
Князь медленно двинулся вдоль фронта замерших полков, придирчиво вглядываясь в безукоризненный строй солдат со вскинутыми на караул винтовками. Когда он миновал последнюю роту первой пехотной дивизии, её полки по установленному правилу опустили винтовки к ноге. Остальные части продолжали равнение на командующего, и волны ответных приветствий катились ему на встречу.
– Здорово! Правда ведь? – восторженно обратился Тихменёв к Звонарёву.
Объехав весь лагерь, великий князь вернулся к Преображенскому полку. Начинался главный акт этого грандиозного, строго распланированного спектакля.
На лагерной дороге показался царь Николай II верхом на белом аргамаке в сопровождении конвойных казаков в алых и синих черкесках. Дальше следовали открытые ландо, на которых восседали царица, президент Франции Раймон Пуанкаре, члены царской семьи и приближённые из свиты.
Снова над лагерем воцарилась полнейшая тишина. Всё, казалось, затаили дыхание. Снова к небу рванулась команда:
– Слушай, на караул!
Гулким эхом отдалась она по всему лагерю. Великий князь поскакал навстречу Николаю II. Отсалютовав обнажённой шашкой, он отдал царю строевой рапорт.
Едва царь поравнялся с правым флангом преображенцев, знамёнщик опустил до земли полковое знамя и тотчас вскинул его вверх. Царь отдал честь знамени и направился вдоль парадной линейки. Грянуло «ура».
Царь улыбался, приветственно раскланивался. За ним, придерживая гарцующего коня, скакал великий князь. В нескольких шагах от них следовало ландо с императрицей Александрой Федоровной и Пуанкаре. Президент – в чёрном фраке, белой жилетке, с муаровой лентой Андрея Первозванного, накануне пожалованной ему царём. Он помахивал цилиндром в высоко поднятой руке, что-то говорил царице и любезными поклонами отвечал на приветствия вошедшей в верноподданнический раж публики. Вся в белом, в пышной шляпке из белых страусовых перьев, подрумяненная и напудренная, императрица выглядела моложе своих лет и казалась красивой. Остальные ландо остановились возле валика. К шатру поднялись четыре царевны, казак с больным наследником на руках, фрейлины и царедворцы. Великие княжны были одеты одинаково: белые гладкие платья, белые чулки, белые туфельки и простые соломенные шляпки. Точь-в-точь провинциальные барышни среднего достатка. Десятилетний наследник был в форме Преображенского полка.
Проезжая по фронту гвардейских полков, Пуанкаре внимательно, чисто по-хозяйски всматривался в статные фигуры русских чудо-богатырей, рослых, крепких, мускулистых. Для президента всё это было пушечное мясо, по дешёвке купленное им на золотые займы царскому правительству для подавления революции. Пуанкаре невольно сравнивал солдат русской гвардии с полками сенегальских стрелков, тоже рослых и сильных, которые, как и русские, должны были защищать прекрасную Францию в случае войны. Пуанкаре, как хозяин, остался доволен видом русских наёмников, о чём и поспешил сообщить Александре Фёдоровне.
Пока царь и президент объезжали фронт гвардейцев, полковые оркестры по задней линейке пробирались к Преображенскому полку, образуя огромный сводный оркестр всех гвардейских частей.
Закончив объезд частей, царь, а за ним и ландо с Пуанкаре и императрицей вернулись к валику. Царь спешился и, подождав Пуанкаре, вместе с ним и императрицей поднялся к шатру. Невдалеке от них остановился и великий князь Николай Николаевич[15], как бы ожидая дальнейших царских приказаний.
С того места, где обосновались Тихменёв и Звонарёв, было прекрасно видно всё, что происходило около шатра. Тихменёв вполголоса называл имена князей, министров и иностранных послов, толпившихся позади царской семьи и французского президента.
Звонарёв перевёл свой взгляд на великого князя Николая Николаевича. Он видел его и раньше, но теперь обратил внимание на его высокую фигуру. Бросались в глаза непомерно длинные ноги, над которыми возвышалось короткое туловище и совсем маленькая для его роста и уже сильно седая голова. Лицо великого князя было красивое, с тонкими чертами и волевым ртом.
– Ругатель отменный, – тихо комментировал Тихменёв, глазами указывая на великого князя. – Перед строем кроет площадной бранью даже офицеров.
– Как же это терпят?
– А вы знаете правило: на проституток да на великих князей не обижаются. Ха-ха-ха! – довольный своей остротой, Тихменёв тихо засмеялся. – Но вместе с тем должен вам заметить, что это, пожалуй, единственный человек, кто по-серьёзному думает о нашей гвардии. По его настоянию командирами гвардейских дивизий и полков назначались армейские офицеры и генералы, отличившиеся в Маньчжурии. Он перевёл из армии много армейских офицеров, георгиевских кавалеров. Князь не смотрел на то, были они знатны или бедны. Армейские офицеры получали специальные добавки к жалованию «на представительство», что давало им возможность служить в дорогих по своему образу жизни гвардейских полках. Это вызвало неудовольствие некоторых знатных и титулованных гвардейцев. Ну что ж, им же хуже. Князь перевёл их в захудалые полки. Служите, мол, во славу царя и отечества…
Князь, стремившийся «обрусить» высший командный состав армии, пользовался расположением большинства офицеров, как ярый противник немцев. При дворе он считался главою русской партии. Его жена, черногорская принцесса, открыто выражала свою ненависть к «немке», как при дворе называли Александру Фёдоровну, так и не научившуюся понимать русскую речь и тем более говорить по-русски.
Итоги кампании 1916 года на Кавказском фронте были весьма значительными. В ходе трёх последовательных операций 3-я турецкая армия была разгромлена. Русские войска сумели продвинуться на территорию Турции более чем на 250 км. Но в дальнейшем из-за холодной зимы, затруднившей полставки провианта и фуража, фронт потерял огромное количество личного состава из-за голода, болезней и обморожения. События февраля 1917 года и отречение Николая II потребовали срочного возвращение Николая Николаевича в Ставку. Император пожелал перед отречением вернуть его на пост верховного главнокомандующего. Однако Временное правительство не устраивало пребывание представителя рода Романовых на этом посту. Сдав командование генералу Алексееву, Николай Николаевич покинул Могилёв и перебрался в Крым. В марте 1919 года эмигрировал в Италию. Потом переехал во Францию, в которой и оставался до конца жизни. Находясь в эмиграции, не принимал участия в активной политической деятельности, хотя среди белоэмигрантов считался претендентом на российский престол. Был похоронен в Каннах.
Зато к французам великий князь явно благоволил и даже раболепствовал перед ними, будучи одним из акционеров крупнейшего военного концерна Франции – компании Шнейдера-Крезо. Акции приносили ему хорошие доходы. Французы прекрасно это знали и не стеснялись диктовать нужные им распоряжения, касающиеся русской армии.
Обо всём этом вспомнил Звонарёв, наблюдая, как почтительно склонился перед царём и Пуанкаре великий князь в ожидании их распоряжений.
До слуха Звонарёва то и дело долетали пересуды публики по поводу приезда Пуанкаре и событий последних дней. Рассказывали, что Пуанкаре привёз в подарок Александре Фёдоровне гобелен с портретом Марии-Антуанетты, казнённой во времена французской революции 1793 года[16]. Этот подарок произвёл на суеверную Александру Фёдоровну тяжёлое впечатление. Она увидела в этом знамение – уготованную ей свыше участь французской королевы.
– Пуанкаре допустил бестактность. У нас только и говорят о покушении на царствующую фамилию. Революция является пугалом для двора, и вдруг такое напоминание о французской революции и казни королевы! В доме повешенного не принято говорить о верёвке, – рассказывал шёпотом Тихменёв Звонарёву.
Кто-то заговорил о возможности внезапного начала войны между Россией и Германией.
– Чепуха! – раздалось протестующе. – Россия и Германия связаны более чем вековой дружбой. Со времён Наполеона мы всегда были рядом. Личный представитель кайзера при Николае граф Шлобитен утверждает, что о войне не может быть и речи.
Шлобитен стоял в свите царя и, как обычно, был весел и остроумен. Он высокомерно и насмешливо поглядывал на французских офицеров, группировавшихся вокруг французского посла Палеолога и военного атташе маркиза де Ла Гиш. Французы были сдержаны, немногословны, что истолковывалось любопытными наблюдателями как плохой признак.
Около юных царевен грудились молодые князья и свитские офицеры. Они о чём-то оживлённо разговаривали. Царевны прыскали от смеха и зажимали рты кружевными платочками. Рядом с сёстрами на стульчике сидел бледный и худой наследник. За его спиной стоял широкоплечий казак Деревянко, исполнявший обязанности няньки. Он строго следил, чтобы царевич не вставал со стула. Невдалеке от наследника в кругу генералов оживлённо жестикулировал великий князь Сергей Михайлович[17] – августейший генерал-инспектор артиллерии.
– Главнейший и, к несчастью, несокрушимый враг русской артиллерии, отрекомендовал его Тихменёв Звонарёву. – В артиллерии он ничего не смыслит, и почти все его распоряжения – прямое свидетельство скудоумия и самодурства. Диву даёшься, как наш Кузьмин-Караваев уживается с ним и умеет обезвредить глупые, а то и просто вредные приказы. Беда ещё и в том, что «августейший инспектор» идёт на поводу у французской фирмы Шнейдера-Крезо. Французы хотели навязать нам перевооружение всей лёгкой артиллерии своими пушками, которые куда хуже наших. Хорошо, министр финансов запротестовал: нет денег, и всё! Только благодаря этому перевооружение не состоялось. И всё же эти бестии французы не разрешили нам закупить пушки у Круппа, который предлагал нам тысячу отличнейших гаубиц и тяжёлых орудий с полным боевым комплектом.
– В данном случае можно было бы и не согласиться с французами, – заметил Звонарёв.
Тихменёв усмехнулся:
– Попробуйте не согласиться, если они дали взятку августейшему идиоту Сергею Михайловичу и он забраковал крупповские пушки после испытаний.
В ожидании, пока объединённый оркестр всех гвардейских полков перестроится, царь и Пуанкаре тихо беседовали. Невысокого роста, невзрачного вида, царь, в лихо сбитой набекрень фуражке, слушал президента, чуть наклонив голову в его сторону. Кряжистый, начинающий полнеть Пуанкаре, с грубоватым, загоревшим крестьянским лицом и вздыбившейся бородкой, держался с почтительностью гостя, который задался целью во что бы то ни стало расположить к себе сердце гостеприимного хозяина. Оба улыбались, поддакивая друг другу, и, видимо, были довольны беседой.
Наконец оркестр перестроился. На дирижерский пульт поднялся седовласый невысокого роста мужчина – главный дирижёр императорского Мариинского оперного театра. Окинув взглядом своё музыкальное воинство, он церемонно поклонился монарху.
Началась вечерняя перекличка в полках. По иерархической лестнице рапорты поднимались всё выше и выше. Командиры полков рапортовали командиру гвардейского корпуса, тот, в свою очередь, отдал рапорт великому князю, а князь на безукоризненном французском языке доложил о результатах переклички Пуанкаре.
Долгая, довольно скучная процедура. Когда она, в конце концов, завершилась, раздалась долгожданная команда:
– На молитву, шапки долой!
Солдаты, офицеры и публика обнажили головы. Обычно после этого солдаты пели хором молитвы «Отче наш» и «Спаси, господи, люди твоя», но сегодня, вопреки установленному ритуалу, сводный оркестр заиграл тягучий и нудный хорал «Коль славен господь во Сионе». Все стояли навытяжку, молчаливые, с постными лицами, изредка крестясь. Прошло добрых десять минут, прежде чем оркестр кончил хорал, и все вздохнули свободнее, зашевелились. Затем артист Александринского императорского театра, одетый в солдатскую форму Преображенского полка, по-актёрски выразительно и набожно прочитал молитвы «Отче наш» и «Спаси, господи, люди твоя».
И вот, наконец, великий князь скомандовал:
– Накройсь! Слушай на караул!
Сводный оркестр заиграл «Марсельезу»[18]. Огненная мелодия французского гимна будто встряхнула всех. В ней было что-то от свежего порывистого ветра, грозовое, могучее, зовущее. Звонарёву невольно вспомнилось, как несколько дней назад большая толпа бастующих рабочих дружно и воодушевленно пела «Рабочую марсельезу», а полиция и казаки безуспешно пытались прекратить это поднимающее на борьбу пение. Смолкая в одном месте, песня вдруг, как пламя пожара, подхваченное вихрем, снова взвивалась над толпой в другом, ещё настойчивее и упорнее.
Сейчас, вслушиваясь в звуки чудесного гимна, Сергей Владимирович начал тихонько подпевать оркестру. Тихменёв предостерегающе толкнул его под локоть:
– Не забывайтесь!
Звонарёв умолк.
Она звучит на полях сражений и во время Парижской коммуны в 1871 году. 17 июля 1941 года была запрещена немецкой оккупационной администрацией Северной Франции, однако продолжала оставаться гимном правительства Виши. Русский текст на эту музыку под названием «Рабочая Марсельеза», не являющийся переводом с французского, написан П. Л. Лавровым в 1875 году. «Рабочая Марсельеза» в течение некоторого времени после Февральской революции 1917 года использовалась в качестве гимна России наряду с «Интернационалом».
Когда замерли последние звуки «Марсельезы», зазвучал царский гимн «Боже, царя храни». Это был разительный контраст мелодий. Казалось, после освежающего ветра революционного гимна весь лагерь наполнился затхлым и душным воздухом.
«Заря с церемонией» закончилась криками «ура». Утомленные затянувшимся церемониалом солдаты кричали без всякого воодушевления. В их «ура» не чувствовалось ни душевного подъёма, ни патриотического восторга. Кричали потому, что было приказано кричать.
Царь распорядился отпустить полки, а сам с Пуанкаре и царицей на одном из придворных автомобилей отбыл в Красносельский дворец. Следом двинулись автомобили со свитой. Громоздкие и неуклюжие машины, изготовленные на русско-балтийском заводе, нещадно дымили и рядом с элегантными заграничными выглядели топорными и безобразными.
Начался общий разъезд. Публика хлынула к железнодорожной станции, куда уже было подано несколько пассажирских составов.
На вокзале к Тихменёву и Звонарёву подошёл адвокат Кузьмин-Караваев, брат начальника артиллерийского управления.
– Рад вас видеть здесь, Сергей Владимирович, – сказал он после того, как Тихменёв представил ему Звонарёва. – Мне брат говорил о вашем несчастье. Ваше присутствие на церемонии не ускользнуло от внимания некоторых влиятельных лиц. Завтра я расскажу фон Валю, что встретился здесь с вами. Он лопнет от зависти. Ему-то сюда никогда не попасть. Видели вас и охранники из министерства внутренних дел, и кое-кто ещё. Я не преминул представить им вас заочно, так сказать, на расстоянии. Поверьте мне, всё это окажет существенное влияние на дальнейший ход дела вашей супруги.
Прощаясь со Звонарёвым, Кузьмин-Караваев выразил надежду увидеть его на следующий день на царском смотре Красносельского лагерного сбора.