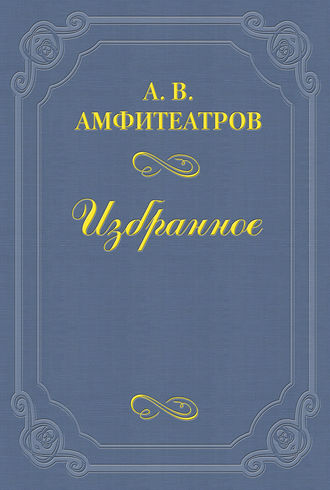
Александр Амфитеатров
Московский культ, окружавший великих людей
* * *
Популярность Антона Рубинштейна сказывалась не так шумно и показно. Но он – едва из вагона – вдруг как-то тихо, флюидически напитывал собою московскую общественную атмосферу. Он держал себя невидимкою, был, пожалуй, даже до известной степени нелюдим, но развивалось в культурных слоях столицы заочное к нему влечение мыслями и чувствами. Словно посетил город монарх, который не спешит выступлением пред народными массами, но, замкнувшись в своей резиденции, в молчании, готовит необычайно важный для всех и каждого манифест. Либо – похоже – как приехал из-за тридевяти земель высокочтимый святитель, от которого ждут, что он всенародно совершит некое сверхъестественное чудо. И ожидания оказывались ненапрасными. Манифест действительно выходил, чудо действительно совершалось – в форме очередного концертного выступления Антона Григорьевича.
В сроке же флюидического ожидания чуда воцарялось в обществе временное единобожие: все другие боги и полубоги, любимцы московской молвы, отступали с переднего плана сцены вглубь, в тень. Даже Николай Григорьевич Рубинштейн, хозяин и диктатор музыкальной Москвы, принимая в ней великого гостя, брата, держал себя, да, вероятно, так себя и чувствовал, королем, принимающим в своей столице императора.
Братья хорошо дружили, как родственники и как артисты, но весьма разно мыслили, чувствовали, жили. Николай помимо музыкального образования получил и общее, высшее, прошел, хотя и плохо, Московский университет по юридическому факультету и навсегда остался тесно связан с ним, как с корнем московского культурного быта, старостуденческими симпатиями, – и, по силе их, был не только своим человеком в московской интеллигенции, но и властно влиятельным ее членом-деятелем. Антон во всем, кроме универсального знания музыки, был почти что самоучкою. И тем не менее по характеру, нравам, образу жизни, даже по служению святыне искусства он был гораздо культурнее, несравненно более европеец, чем Николай, темпераментный и неуравновешенный москвич, живое воплощение романтического сочетания – «гений и беспутство».







