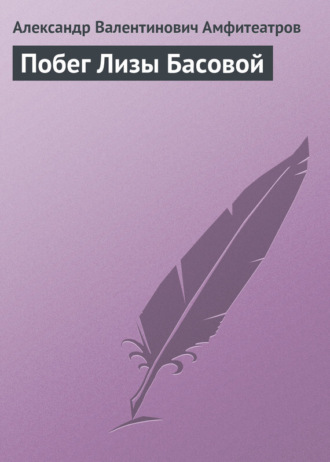
Александр Амфитеатров
Побег Лизы Басовой
Едва въехали в село Дагну, Тимофей был окликнут рослым мужиком, нарядным, как купец, и здорово выпившим. Сперва путники струсили было, но, вглядевшись, Тимофей признал в мужике мелкого золотопромышленника Миронова, с которым вместе «старательствовал» когда-то за Байкалом. Тому прошло уже лет пятнадцать, с тех пор товарищи не видались и вестей друг о друге не имели. Ульяны Миронов не видывал и, что была или есть такая на свете, не знавал. Следовательно, опасности от него Лизе не предвиделось. Обрадовался старому товарищу Миронов, настоял, чтобы заезжали к нему во двор, и – как ты хошь, что ты хошь, однако ты у меня погости.
Напрасно Тимофей и Лиза настаивали и отговаривались, что нельзя – очень спешат, и далеко еще им путь держать: на самый Барнаул. Миронов только кланялся в пояс да повторял умиленным басом:
– Не обессудь! Уважь! Погости… Уж так мы тебе рады, так тебе рады… Господи! Я тебя, может быть, сколько годов в мертвых почитал?! Однако вдруг вижу: едет… И – супружница с ним… Ах ты! Ах ты!.. Не обессудь! Уважь! Погости!
– Душою бы рады, Василий Мироныч, но поспешаем в Барнаул…
– Что тебе в Барнауле делать? Барнаул так Барнаулом и останется, с места не уйдет. У меня погости! Ты, друг, посмотри, как живу… чаша полная!.. царю завидно!.. Господи! Небось дружками были, камратами звались, из одного котла кашу ели, из одной бутылки спирт глотали… Чтобы все вместе, значит, и на земле и под землею… И вдруг, однако, вижу: едет… И супружницу с собою везет, – эдакую добыл кралю писаную… Ах ты! Ах ты!.. Как же нам с тобою, по всему этому случаю, однако, теперь не выпить! Тимофей Степанович! Ульяна Митревна! Уважь! Погости!
Он кланялся сам, заставлял кланяться жену, детей, работницу, работника.
– Что же, Ульяна Митревна? – нерешительно обратился Тимофей к «жене». – Ведь мы все равно хотели на день-другой себе роздых дать… Так лучше, может, и впрямь погостить у Василия Мироновича, ничем у чужих людей?
Лиза помолчала, подумала. Она чувствовала себя страшно усталою с дороги. Все кости болели.
– Хорошо, я согласна. Ваши гости, Василий Миронович, только уж – заранее уговор, хозяюшко милый: больше трех ден вы нас у себя не задерживайте.
– Ульяна Митревна! Сударыня ты моя! – возопил Миронов. – О чем твои ко мне слова? Напрасные твои ко мне слова! Да ты только проживи у нас три дня-то, – так ты и Барнаул свой, и все на свете забудешь, с нами не расстанешься… Вот какие мы люди, сударыня моя!.. Опять же теперь свадьба у нас наладилась: однако племянницу из своего дома выдаю за хорошего молодца: купец-парень! – в Плющу, село, за нами будет сорок верст… слыхали аль нет? Как же мне, сударыня, теперь возможно отпустить тебя, хотя бы и в Барнаул? Ты у меня на свадьбе первый человек будешь… Уважь! Погости! Не обессудь!..
Таким-то манером попали наши путники в сибирский свадебный смерч. И начал он их с того дня шатать и мотать – от Василия Миронова к Мирону Васильеву, из Дагны в Плющу, из Плющи в Дагну. И благодаря тому, что вся Дагна видела, как высоко чтит и ценит Тимофея Курлянкова и супругу его, Ульяну Митревну, Василий Миронов, первый на Дагне, а пожалуй что и по всей прилегающей округе, человек, – только и слышали теперь путники со всех сторон, что:
– Не обессудь! Уважь! Погости…
Или – как в Сибири хозяйская формула предлагает:
– Поелозьте, поелозьте,
Милы гости!
На что порядочный гость должен, по этикету, отвечать с учтивостью:
– То и знаем,
Надвигаем,
То и знаем,
Надвигаем,
Наелостились!..
Прошло три дня. Прошла неделя. Прошло десять дней. Прошло две недели. Тимофей и Лиза были, правда, уже не в Дагне и даже не в Плюще, а в какой-то Опустоши, но Опустошь, как две капли воды, походила и на Дагну и на Плющу, и был с ними тот же Мирон Васильев, и был тот же Василий Миронов, и шло кругом все то же – одно на одно, вино на вино.
Как в Дагне, Плюще – потом в чем-то еще – потом в Опустоши, Тимофей и Лиза, по почину Василия Миронова, всюду оказывались самыми почетными гостями. Их больше всех и чуть не первыми после родителей потчевали, усерднее всех угощали и отводили им лучшую свободную каморку для ночевки. В разыгрывании супружеской комедии прибавился новый, неприятный и щекотливый момент. Но Тимофей опять-таки показал себя молодцом и настоящим рыцарем. Он каждый вечер очень ловко умел задержаться и заговориться с кем-либо, в момент отхода ко сну, чтобы дать «жене» время свободно раздеться и улечься в постель под одеяло. А сам затем, проникая в «супружескую» камору, целомудренно тушил ночник и свертывался калачиком, не раздеваясь, на каком-нибудь сундуке, лежанке, либо просто на полу, сунув под себя армяк, а под голову шапку. Поутру он столь же скромно и деликатно удалялся, якобы «до ветра», – чтобы освободить Лизе срок спокойно одеться и привести себя в дневной порядок. Но потом, выждав достаточно времени, непременно возвращался, и тогда уже он Лизу настойчиво просил удалиться из каморы. Как-то раз, забыв что-то, она – только что вышла – сейчас же возвратилась и застала Тимофея валяющимся с усердным и деловитым видом, точно он обязанность исполняет, на ее, едва покинутой, постели.
– Что ты, Тимофей Степанович? Ты еще спать намерен? – изумилась Лиза: было уже около шести часов утра, и все село встало на ноги.
– Не… я, однако, так…
Тимофей сконфузился.
– Зачем же?
Тимофей сконфузился еще больше:
– Для людей…
Лиза поняла: Тимофей старался придать их «супружескому» ложу «естественный» вид, будто на нем спали два тела, а не одно…
– Ты меня, Ульяна Митревна, извини, пожалуйста, – виновато оправдывался Тимофей, – однако, понимаешь, я ведь не дурное что мыслю, а для тебя же стараюсь… Как мы, значит, супругами считаемся… пред людьми. Этому, хоть всю Сибирь обойди, никто не поверит, чтобы муж с женой врозь спали… Ну, и того… оберегаю, значит, твою честь и свою амбицию… Стараюсь так для тебя устроить, чтобы все к лучшему… для надлежащего вида. А то засмеют… тебя за распутную, меня за дурака почитать станут… Да и подозрения опасаюсь… Ты не обижайся: однако ничего…
Лиза вспыхнула, но обижаться было не на что: наоборот, скорее она могла лишь быть и действительно была тронута такою заботливою предупредительностью «супруга». Вообще – и в оседлом состоянии, как в кочевом, – учтивый, сообразительный и трезвый Тимофей менее всего затруднял ей супружескую комедию. Гораздо щекотливее для Лизы была свадебная среда, в которой они, с раннего утра до поздней ночи, обращались.
III
Некогда Ганнибал зазимовал в Капуе и – твердят все учебники истории для младшего и среднего возраста – тем самым погубил весь свой итальянский поход, ибо в изнеженной среде капуанского обывательства суровые карфагенские воины изленились и, с позволения сказать, обабились. Нечто вроде капуанского упадка энергии переживали и прощенские беглецы – Тимофей Курлянков и Лиза Басова – в свадебном вихре, крутившем их по Дагнам, Плющам и Опустошам. Долго напряженные нервы не выдержали. Заговорила потребность реакции. Сказалась огромная усталость физическая и нравственная, жажда сна, отдыха, покоя, животного прозябания. Только очутившись в полной безопасности, истомленный и потрясенный необычными впечатлениями и сверхсильными напряжениями энергии, организм оценивал самочувствием, как много он пережил и утратил в короткий срок, и настойчиво просил восстановить свою потерю. Каждое утро свое Лиза начинала угрызениями совести, что пора ехать дальше, но с тайною в глубине души надеждою: авось что-нибудь помешает, – и еще день, два будут длиться и сон в тепле, на мягкой постели, и люди кругом, и чистая пища, а не серая степь, серое небо, могильники, звяканье бубенцов и дорога, дорога – холодная сибирская дорога без конца. Когда человек сам не прочь встретить помеху к своей цели, помехи находятся очень легко и принимаются очень покорно.
– Ну что за беда, в конце концов? – рассуждала Лиза. – Бегство мое уже совершившийся факт, а в этом, – думала она о своей ладанке на груди с зашитою запискою, – Потап не связал меня никаким сроком. Еще даже неизвестно, найду ли я в Nске этого товарища… Быть может, его давно перевели…
Что касается Тимофея, лишь бы Лиза не торопила, а он готов был плавать в свадебной атмосфере, как рыба в воде. Было тепло, сытно, почетно, работать не приходилось, деньги лежали в кошеле целые, непочатые: гуляй – не хочу на чужой счет, – чего еще желать? куда гнать? Над ними не каплет! Не каждый год выпадает человеку этакая нечаянная благодать! Уж куда ни шло, пробесимся мясоед, а дорогу оставим на филипповский пост.
Тимофею заметно хотелось тянуть путешествие. Сперва было условлено, что он проводит Лизу только до Барнаула, а там сдаст ее знакомому Потапа, полуинтеллигентному купцу-сочувственнику, который уже позаботится переправить беглянку дальше на Каинск или на Курган, куда в то время дошла железная дорога. Но в пути беглецы услышали наверное, что Потапова купца-сочувственника в Барнауле нет – уехал в Петербург и вряд ли будет назад даже к новому году. Это известие совершенно изменило и планы и маршрут путников. Им уже не для чего стало уклоняться так далеко на запад.
Тимофей предлагал теперь просто подняться на север к таежной полосе и затем катить в Россию, как все добрые люди в то время ездили, прямиком – по большому Иркутскому тракту. Новая путина предстояла тоже огромнейшая, но все же короче прежде намеченной дуги – верст на 600. Чтобы осуществить ее легче и с меньшею потерею времени, следовало подождать, покуда кончится осенняя распутица и станут реки. А то ведь известное дело, что в Сибири, когда морозов нет, путешественник не столько дорогою едет, сколько выжидает паромов.
Лень двинуться из уюта в степь сделала новый проект этот очень соблазнительным и для Лизы.
– Хорошо, Тимофей, я согласна. Мне безразлично, каким трактом ехать и куда именно выехать – лишь бы к России ближе. Но мне за тебя совестно: ты, таким образом, очень отдаляешься от Храповицка, тебе трудно будет возвращаться.
– А я, Ульяна Митревна, в Храповицк-от, может быть, еще и не возвращусь.
– Как? А заимка твоя?
– За заимкою Потап Ильич покуда присмотрит, а потом хозяину письмо пошлю, он другого приказчика поставит. Бог с нею. Мне о заимке и вспоминать противно после того случая. Не жилец я больше на заимке. Я человек чувствительный. Там теперь вся земля покойницею пропитана. Как я по ней ходить буду? Подошвы сожжет.
– Где же ты, в таком случае, намерен поселиться и чем займешься?
– А где? Доставлю тебя до Расеи и сам в Расее останусь. Деньжонки у меня есть, руки – не хвалясь скажу тебе – золотые: к какому делу меня ни приткни, к промышленному ли, к торговому ли – нигде не ударю в грязь лицом. В Сибири пожито, попробуем счастья, как в Расее люди живут. Ты не смотри, что я курносый: я счастливый. Опять же, однако, и тверезый – смею себя аттестовать: без рассудка не пью, знаю свою дозу…
– Ну, давай тебе Бог! – шутила Лиза. – Осядешь у нас в России, пожалуй, опять женишься – на российской?
Тимофей отвечал ей не сразу, помолчав; и с каким-то странным взглядом:
– Нет, жениться мне больше никак нельзя.
– Но ведь ты же вдовый?
– Я вдовый, да паспорт-то у меня женатый. Это правду говорил Потап Ильич, что русский человек состоит из души, тела и паспорта. И паспорт-от, пожалуй, точно оказывается действительнее всего прочего. Теперь, скажем, Ульянино тело в земле гниет, душа в горних витает, либо бесы ее по мытарствам водят, а паспорт жив. Сама знаешь, кто теперь, по паспорту, Ульяною-то оказывается… И, стало быть, выходит теперича так, что в теле и душе я с Ульяною смертью разведен и венец наш кончился, а на паспорте – нет, дудки, женат! И теперь я на всю жизнь свою осужден к тому, чтобы – ежели в рассуждении бабьего случая – пребывать в беззаконии, а насчет чтобы честным браком – однако, нет! Какого попа ни проси, всякий тебя с крыльца прогонит: с ума сошел, свет? двоеженцем желаешь быть? Хоть и на духу признайся насчет Ульяны – все одно: самый жадный поп – даже и для модели – венчать не станет. Потому что таинство таинством, а паспорт паспортом. Пред Богом оно, конечно, таинство главнее, ну а в людях паспорт покажи… Да! Умно я себя устроил! Могу сказать!
Лизе было очень неловко слушать это рассуждение, тем более что она находила его справедливым. Конечно, паспортная женатость Тимофея «на всю жизнь» обусловлена, главным образом, тем обстоятельством, что он не решился объявить смерть Ульяны. Это его вина. Но она, Лиза Басова, воспользовалась странным юридическим положением Тимофея, и часть вины как будто перелагается на нее, самозванку, злоупотребляющую документом о женатости уже неженатого человека, пользующуюся формальным правом, которое в действительности погасло. Чтобы скрыть невольное смущение, девушка отшучивалась:
– Ничего, Тимофей, Бог милостив! У тебя рука счастливая. Умерла настоящая Ульяна, теперь я в Ульянах слыву, по паспорту. А в России найдешь себе новую Ульяну, чтобы была уже и по паспорту и по сердцу…
Тимофей покраснел всем своим курносым лицом.
– Нет, уж спасибо, покорно благодарю. Конечно, мне до стариков еще далеко: пятого десятка не переломил, силу в себе чувствую, человек грешный. Без бабы не проживу. Но чтобы опять комедь эту ломать, насчет паспорта, – нет, не согласен, оставьте! Если Бог пошлет согласную сожительницу, почему не взять? Но в Ульяны ее производить… нет! довольно!
– Что же, тебе имя надоело? – насмешливо спросила Лиза, даже уколотая немножко почти задорною горячностью Тимофея.
Он объяснил, не смутившись:
– Не надоело, но что мне в нем приятного? О первой своей Ульяне я и думать-то ненавижу: ведьма была, одного теперь в жизни своей боюсь, не вздумала бы по ночам сниться. А вторая Ульяна – ты то есть, – чего лучше не надо, да не свой человек, чужой кус… Я к тебе со всем моим глубоким уважением и никогда тебя не забуду; но ничего в тебе к удовольствию своему я иметь не могу. Что лестного? От людей-то прячешься, прячешься, хитришь, мудришь, чтобы не заметили, что мы с тобою не в совете живем… Ты нашего сибирского глума не вкушала. У Сибири язык – бритва. Как начнут издеваться, каждый человек сбеситься может, ежели имеет свою амбицию. Уж и без того меня травят мужики, что я пред тобою больно шибко робею, выходит, будто покорствую под жениным башмаком… Я имею свой характер, могу вытерпеть всякую насмешку, но истинно тебе, Ульяна Митревна, говорю: бывают насмешки непереносные. Нехотя озвереешь, среди зверей зверем себя выкажешь. Ты, Ульяна Митревна, уж снисходи ко мне, – пожалей маленько, если при людях, в таком разе, нагрублю тебе, не взыщи: не я грублю, амбиция грубит… потому что – по нашим понятиям – самый ничтожный тот человек, которым баба командует!







