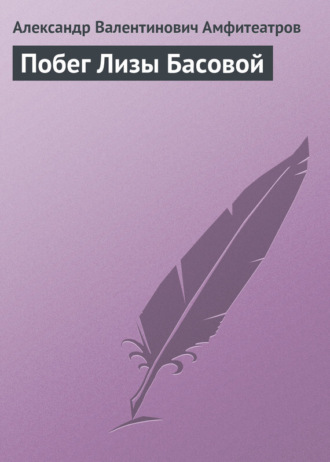
Александр Амфитеатров
Побег Лизы Басовой
Неловкое положение Тимофея, в качестве «супруга», среди мужчин Лиза понимала тем лучше, что самой ей, в качестве «супруги», приходилось не веселее от бабьих стай, которые теперь окружали ее сорочьим стрекотом с раннего утра до позднего вечера. По части нравственности у сибирячек скверная репутация, но вряд ли вполне заслуженная. По крайней мере, сколько знавал я сибирское крестьянство и мещанство, бабы в них и на язык довольно сдержанны, и делом распутничают только там, где много «навозных»: своего рода «эгкзогамическая проституция» во вкусе и тоне древних жриц Астарты[1]. Пресловутый сибирский разврат – достояние безобразных слоев коммерческой и промысловой буржуазии, с случайными состояниями, с случайными банкротствами, «сегодня – на возу, завтра – под возом», – шик «Наполеонов тайги» и связанных с ними соответственных Жозефин. В крестьянстве сибирском я ничего подобного не наблюдал. Напротив, не надо забывать, что южные сибирские степи – классический край крестьянского гражданского брака, очень прочно и честно соблюдаемого по простой силе обычая, без всяких принудительных уз. Если в сибирских женщинах что и коробит нравственное чувство, то не половая распущенность и безалаберность, а, наоборот, холодная способность оценить свое тело, как товар в спросе, и поставить на городской рынок совершенно точно обусловленным предложением. Известна поговорка о Сибири: «Птицы без пения, цветы без запаха, женщины без сердца». Да и то все это, по преимуществу, в полосах, развращенных «навозным элементом».
Но бывают в году сезоны, когда сибирская баба «дуреет». Это – масленица и свадебные мясоеды. Я говорил уже о пьянстве, которым сопровождаются сибирские свадьбы. Но и помимо пьянства – это какой-то хаос распущенности в слове, жесте и деле. Большинство сибирских свадебных песен, острот и прибауток совершенно неповторимы в печати, между тем поют, острят и лясы точат, по преимуществу, женщины. В Минусинском уезде до сих пор уцелела старинная свадебная пляска «Козел», с такою выразительною мимикой, что канкан, кэк-уок и матчиш, сравнительно с ее первобытным цинизмом, не более как шведская гимнастика для детей среднего возраста. В Кузнецком округе посейчас молодую – для показания «честности» – выводят к пирующим гостям в одной рубахе. Высокоторжественная демонстрация эта сопровождается грохотом в тазы и котлы, пляскою в присядку, воплем, гиканьем и пением своеобразного хорала, что ли, под названием «Беда». Эту «Беду» начал было мне диктовать один минусинский обыватель, но, произнеся четыре стиха, сконфузился и отказался продолжать.
– Нет, знаете, черт ее побери! Однако совестно. Когда ее на свадьбе, пьяный, орешь, – как будто и ничего, а у трезвого язык не поворачивается…
Словом, кто хочет вообразить себе настроение «хорошей и почестной» сибирской свадьбы, тому надо возвратиться из XX века в XVII и XVI – к Олеарию, Петру Петрею, Корбу. Разница одна: все то, в чем на Москве обличали эти старинные иностранцы родовитое боярство, в Сибири стало пороками богатого «чалдонского» крестьянства. А то – тождество «настроений» полнейшее. Включительно до знаменитой сцены Олеария: «Когда мужья спьяна попадали на пол, жены сели на них и продолжали пьянствовать, пока не упились донельзя». Включительно до пьяной путаницы, кто чья жена, кто чей муж, до так называемой «кумовщины». Ревнивый муж злобится на жену, замеченную им в амурах с каким-то молодцом на свадебной пирушке у родственников. Обыкновенно в Сибири на этот счет – строго: все за мужа и против неверной жены. Но тут только пожимают плечами:
– Дурак Блажных! Кто же тиранит бабу за свадебный грех? Известно, что бабы на свадьбах – сумасшедшие. Это ихнее время. Царствуют, подлые!
Когда Лиза впервые очутилась среди хмельных, полухмельных и похмельных баб-поезжанок, она прямо струсила: ей показалось, что она в доме сумасшедших, – таких словечек она наслушалась, такие невозможные вопросы ей задавались. Оскорбляться она не имела права, потому что видела, что обращаются к ней таким образом не со зла, а, напротив, с полным радушием, как к ровне, которой добра желают. Узнали, что «Ульяна Митревна» замужем седьмой год, а детей нет, и наперерыв осыпали ее супружескими советами и наставлениями – хоть провалиться от них сквозь землю в ту же пору! Застыдилась, растерялась, – дружным хором подымают насмех: «Седьмой год баба замужем, а краснеет, как молодуха! Ишь, городская модница! Не разревись, поди, со стыдобы». И вправду, несколько раз атмосфера пряных слов и мыслей доводила Лизу до слез. Советовалась Лиза с Тимофеем, как ей вести себя, чтобы не было себе зазорно и баб не обидеть. Но тот только руками развел:
– Бабы, Ульяна Митревна!.. Время свадебное… Пьяные они… Ты отмалчивайся…
Так и решила Лиза: напустить на себя глупый вид и ровно ничего не понимать, – пусть лучше круглою дурою считают, но оставят в покое. Подействовало, отвязались. К великому своему удовольствию, Лиза вскоре удостоилась слышать собственными ушами такую себе аттестацию:
– Красивая жена у Тимофея, а уж куда не умна. Ни она слова сказать, ни она компанию разделить: сидит, как сова, да глазищами хлопает! Скука с нею скученская! А еще городская!
– Ее, миленькие, кажись, и муж-то не любит?..
– А за что любить? Разума в голове нет, детей не рожает… напрасно на свете живет, – только небо коптит.
Свадебных пирушек Лиза окончательно не выдержала. При первой же демонстрации молодой с аккомпанементом «Беды», ею овладел панический ужас. К счастью, Тимофей был близ «жены». Он заметил, что Лиза белая, как мертвец, – еще минута, и упадет в обморок… Он выхватил «жену» из толпы, увел, будто «сомлела». Так как сомлели уже многие женщины, то никто не обратил внимания. Лизе же это приключение стоило сильного – первого в жизни – истерического припадка. Тимофей хорошо понял, что потрясло Лизу, и задумался, как избавить ее от подобных зрелищ. Уговорились «сомлевать» на каждом пиру и как можно раньше. Как только пирование начинало переходить в оргию, Лиза симулировала обморок. Тимофей подхватывал ее и уводил, извиняясь, что «баба ослабела». Репутацию Лизы эти обмороки окончательно уронили: мало что «полудурье», да еще и больная! Тимофея же все жалели, что – польстился на красоту! навязал себе на шею сокровище!.. В каморке Лиза спокойно укладывалась спать, а Тимофей возвращался на пирушку. Так было и в Дагне, и в Плюще. Так устроилось и в Опустоши.
Лиза спала уже часа полтора, когда ее разбудило внезапно наполнившее каморку громыханье и бормотанье. В испуге она открывает глаза, приподнимается, садится на кровати и – в мерцании ночника – видит наклоняющегося к ней Тимофея, но – какого Тимофея! От смирного, вежливого «Сократа» не осталось и следа: лицо пылает огнем, нос – как вишня, голубые глаза остекленели и налились кровью, борода всклокочена, как войлок, дыхание – будто пожар в кабаке. Тимофей был совершенно пьян! Стоя перед изумленною, испуганною Лизою, он качался на ногах, как трость, ветром колеблемая, цеплялся за кровать, за подушку, за самое Лизу и лопотал полумертвым языком:
– Жена… супруга… сударыня… желаю, чтобы, значит, все по закону… Уль? а Уль? Ульяша… а?
Лизу обуял страшный гнев. Не долго думая, она ударила Тимофея кулаком в переносицу с такою силою, что бедняга, будучи совсем слаб на ногах, рухнул навзничь и остался на полу в сидячем положении, крепко стукнув затылком о сундук.
– А, б…, паскуда, ворона сибирская! – возопил он. – Так-то? А в полицию хочешь?
Лиза обмерла.
Но Тимофея уже охватило сном. Он положил голову на тот самый сундук, о который едва не раздробил себе затылка, и захрапел.
Дверь приотворилась. В каморку заглянуло морщинистое лицо старухи-бабки, матери домохозяина. Она слышала крик и грохот упавшего тела и растревожилась.
– Что тут у вас, молодка? Захмелел, видно, сожитель-то твой?
У взволнованной Лизы едва достало силы найти подходящий ответ.
– Напился, свинья, и безобразничает!.. На ногах не стоит, а туда же командовать желает, драться полез!.. Прекрасно как: валяется на полу, как собака!.. Глаза бы мои его, постылого, не видали!
И завыла.
Она рассчитывала, что старуха, удовлетворив свое любопытство, уйдет. Не тут-то было. Бабка, в качестве человека стародавнего, в ответ на Лизино вытье, разразилась предлинным увещанием, что «реветь, мол, тебе не о чем, – видно, слезы дешевы и глаза на мокром месте; муж у тебя, молодка, человек прекраснейший, а ежели выпил лишнее, то с кем греха не бывает? И какие, право ну, недотроги стали ноне молодые бабы! Ты на меня гляди: я смолоду от сожителя своего только тем не бита, чего в дому поднять нельзя, а сорок лет прожили вместе, развода не просили, детей подняли, внучат дождались. Чем голосить без толку, ты лучше сожителя пожалей: пьяный, что хворый. Нешто можно так, чтобы больной человек собакою на полу валялся? Ты его обряди, ты его уложи. Какая же ты жена, если к мужу жалости не имеешь?».
И пошла, и пошла.
Лиза убедилась, что от сибирской патриархальной матроны ей не отвязаться иначе, как войдя в смиренную роль покорной жены-сиделки. При помощи бабки она взгромоздила бесчувственного Тимофея на кровать, сняла с него сапоги, а сама осталась доночевывать до солнца, сидя без сна на сундуке. Непривычный к пьянству Тимофей действительно сделался ночью ужасно болен. Лизе пришлось возиться с ним, как с малым ребенком. Отравленный алкоголем, Тимофей горел, охал, стонал, метался, рвало его. Словом, ночка выпала такая веселая, что и настоящей жене много надо иметь любви к мужу, чтобы безропотно выдержать подобное испытание, а каково же было терпеть ни за что ни про что от совсем постороннего человека жене по паспорту?
Назавтра, когда Тимофей проспался, между «супругами» произошло жесткое объяснение. Тимофей был смущен до дна души, чувствовал себя глубоко виноватым, просил прощения чуть не со слезами, божился и зарекался, что больше напиваться не будет. Верить было можно, потому что – Лиза знала – в обычных условиях жизни спутник ее действительно был – по сибирским понятиям – человеком редкой трезвости. Но свадебные оргии и не таких людей выворачивают с лица наизнанку. После этой истории Лиза уже только о том и думала, как бы вырваться из засосавшей их вакхической обстановки, и ничего не могла сделать: их перекатывало, как шары какие-нибудь, из села к селу, с одного свадебного пира на другой, от тысячника к тысячнику. И всюду было одно и то же: разливанное море водки и пива, галдеж, песни, непристойная пляска свах, «Беда», «Козел». И – когда все перепьются, нагорланят, насквернословят и напляшутся до изнеможения – мертвый сон до следующего утра, опять открываемого полубутылкою водки на похмелье. А чтобы переутомленный гость не мог убежать от тягостного хлебосольства, каждый хозяин спешил первым долгом обезлошадить поезжан: выпряженные из повозок кони угонялись табуном в степь – копытить корм.
Тимофей держал данное слово и вел себя прекрасно, хотя Лиза втайне уже не так доверяла ему и немножко побаивалась его с той пьяной ночи. Роль фиктивной «жены», разыгрываемая в грубых условиях степной фамильярности, надоела и опротивела ей до тошноты. Нельзя притворно фамильярничать без того, чтобы на отношениях не остался осадок настоящей фамильярности. Лиза так привыкла быть Ульяною по целым дням, что только ночь возвращала ей самое себя, Лизу Басову, с ее сознанием, мыслями, чувствами, – возвращала на короткий предсонный промежуток. А с утра – чуть ступила за порог своей «супружеской» каморки – опять позабудь, что ты Лиза, влезай в кожу Ульяны Митревны.
Свадебная волна незаметно увлекла «супругов» от намеченного ими пути в сторону верст на полтораста. Это еще не так много. В Минусинске я знал не крестьянина даже, а полицейского чиновника, который поехал на свадьбу за шесть верст от города, а очутился затем, сам не зная как, за восемьсот верст, в Кузнецком округе, у совсем незнакомых мужиков. Но тем не менее, когда беглецы подочли свой уклон от маршрута, Лиза пришла в ужас, да и Тимофей почесал в затылке. Решили дальше ни к кому ни за что не ехать и, по возможности, немедленно удирать.
Но тут произошло нечто непредвиденное и нелепое, что опрокинуло все их расчеты и планы.







