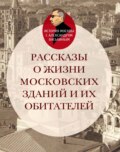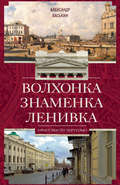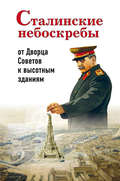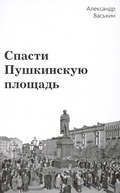Александр Васькин
В переулках Арбата
После «Махорки» Мельников стал работать очень активно. Среди его проектов – первый саркофаг для Мавзолея Ленина (1924), павильоны СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже (1925), Международной выставке в Салониках, Международной выставке «Век машин» в Нью-Йорке (1927) и т. д. В 1933 году состоялась персональная выставка проектов Мельникова на V Миланской триеннале (1933).
Больше всего Константин Степанович проектировал для Москвы, это такие проекты, как Ново-Сухаревский рынок (1924, не сохранился), гараж на Бахметьевской улице (1929), гараж на Новорязанской улице (1929), Дом культуры имени И.В. Русакова на Стромынке (1929), клуб со столовой завода имени М.В. Фрунзе на Бережковской набережной (1929), Дом культуры завода «Каучук» на Плющихе (1929), клуб фабрики «Свобода» на Вятской улице (1929), клуб фабрики «Буревестник» на 3-й Рыбинской улице (1930), гараж Интуриста на Сущевском валу (1934), гараж для Госплана на Авиамоторной улице (1936). Клубы Мельникова создали ему мировую славу – ни в одной другой столице мира не было сосредоточено столько интереснейших и оригинальных конструктивистских зданий. Ни один спроектированный им клуб не похож на другой, но дело не только в этом: клуб стал абсолютно новым общественным явлением для массового досуга и просвещения. Каким должен быть социалистический клуб? На этот вопрос и дал ответ Константин Мельников, и недаром до сих пор его клубы изучают на всех архитектурных факультетах крупнейших университетов мира, настолько они оригинальны и индивидуальны. Каждому он подобрал свой неповторимый облик.
Не меньшую ценность представляют собой гаражи Мельникова, созданные им в сотрудничестве с выдающимся инженером Владимиром Шуховым. Мельников по возрасту годился Шухову в сыновья, но это нисколько не препятствовало взаимопониманию художников. Мельников писал: «Моя система, как психологический натиск, нарушила все существовавшие нормы, сузив отверстие расходования средств и времени на пользование автотранспортом». Тщательно изучив графики движения автобусов при парковке, Мельников создал такой гараж, в который машина может не только заехать, но и из которого она может выехать передним ходом, то есть проехать здание насквозь, не создавая помех другим. Примечательно, что Бахметьевский гараж сохранял свою рентабельность еще полвека после постройки, несмотря на существенное изменение технических характеристик автопарка.
Мельников сам обратился к Шухову: «Стальные фермы по моей просьбе были спроектированы лично В.Г. Шуховым. Я, как новатор, был им принят и обласкан большим трогательным вниманием. Владимир Григорьевич усадил меня на диван, а сам стоит, восьмидесятилетний. Не о гараже, который я ему привез, шла речь о красоте: и с каким жаром объяснялась им игра сомкнутых и разомкнутых сводов русских церквей!» Фермы Шухова для Бахметьевского гаража опирались на восемнадцать стальных колонн, подчеркивающих деление здания на три нефа. Общая площадь кровли была достаточно большой и превышала более 8,5 тысячи квадратных метров. С виду, да и на плане гараж очень напоминал манеж, внутри его не было перегородок (кстати, московский Манеж в 1920-е годы использовался под гараж правительственных автомобилей). Процесс строительства гаража был запечатлен на фотокамеру.
Бахметьевский гараж с 1927 года долго и без перерыва служил своему первоначальному предназначению, за все время эксплуатации, не удостоившись реставрации, что не могло не сказаться на его состоянии. Под предлогом срочного спасения памятника архитектуры автобусный парк был выведен с улицы Образцова, и началось его перепрофилирование под Центр толерантности и Еврейский музей. Однако эти, казалось бы, благие цели чуть не кончились полной потерей шуховских ферм. Примечательно, что проведенная в 2000 году экспертиза обнаружила превышение токсичных веществ в грунте и стенах гаража, что вызывало большие вопросы о целесообразности вообще какого-либо его использования в дальнейшем, а плачевное состояние металлического перекрытия, изъеденного коррозией, было подтверждено в 2001 году и грозило ее полным обрушением.
Тем не менее, вместо логичного решения о капитальной реставрации, было принято ошибочное решение о демонтаже ферм Шухова. Крышу вместе с фонарями верхнего света разобрали, десять ферм демонтировали. Лишь вмешательство общественности приостановило полное уничтожение металлоконструкции путем возведения временной крыши над сохранившимися конструкциями. Только к 2008 году удалось закончить реставрацию Бахметьевского гаража и восстановить утраченные шуховские фермы. По мнению ряда специалистов, реставрация памятника архитектуры прошла с большими нарушениями, исказившими первоначальный проект Мельникова и Шухова.
Еще один гараж Шухова и Мельникова – на Новорязанской улице (1926–1929) – сохранился даже лучше, чем на улице Образцова, а все потому, что не менял своей функциональности. Этот гараж оригинален еще и по причине своей формы – в виде огромной подковы, что было вызвано крайне неудобным – треугольным – периметром земельного участка, на котором эта подкова уместилась. Однако и эта необычная форма породила свою, подковообразную схему парковки грузовиков, отличавшуюся удобством, вместимостью и компактностью. Для гаража на Новорязанской улице Шухов спроектировал столь же оригинальные перекрытия. Будем надеяться, что после бережной реставрации судьба этого уникального здания окажется более счастливой, нежели здания на улице Образцова.
Конструктивистские гаражи Мельникова и Шухова не раз становились объектом интереса другого конструктивиста, фотохудожника Александра Родченко, снимки которого украшали собою страницы многих иностранных журналов той поры.
Еще об одной совместной работе с Шуховым Мельников сообщает в своих мемуарах. Речь идет о гараже с «новейшей системой перекрытий в виде деревянного свода», способном увеличиваться в обе стороны «по перпендикуляру к линии заездов». Этот гараж проектировался в 1929–1930 годы в рамках конкурса на так называемый Зеленый город Москвы – не просто огромное место для отдыха, но и своего рода город будущего. Проект Мельникова назывался под стать его сути – Город сонной архитектуры, что подразумевало осуществление идеи рационализации отдыха за счет сна.
Самое главное же наследство Мельникова – его собственный дом в Кривоарбатском переулке (1927–1929), так как здесь он выступал в двух и даже трех ролях – заказчика, архитектора и жителя. Это было и просто, и трудно одновременно. Тот факт, что Мельников жил в спроектированном им же доме, не редкость даже для Москвы – это считалось в порядке вещей. Взять хотя бы знаменитого Федора Шехтеля, который вполне мог позволить себе подобное – жить в своем же доме. Однако это все-таки было до 1917 года, когда право частной собственности пока еще никто не отменял. В советское же время подавляющее большинство зодчих могло рассчитывать лишь на квартиру, например, в ими же спроектированном высотном доме (к примеру, Дмитрий Чечулин жил в сталинской высотке на Котельнической набережной), но Мельников получил право выстроить личный дом. Как же это стало возможным?

Не такой уж он и кривой – этот Кривоарбатский переулок. Фото А.А. Васькина. 2024 г.
Еще в пору получения образования в училище Константин Мельников задумался о своем собственном доме, удобном и уютном, где можно было бы совмещать и повседневную жизнь, и работу, для чего стоило предусмотреть и мастерскую. В голове у зодчего возникали самые разные формы и конфигурации будущего ковчега – квадрат, пирамида, овал. На смену одному начерченному проекту приходил другой, мастер искал идеальную форму и в конце концов нашел ее – дуэт двух цилиндров, как он обозначил ее сам. Скорее всего, дом в Кривоарбатском стал результатом нереализованности проекта другого здания – клуба имени Зуева, в конкурсе на который принял участие Мельников в 1927 году. Тогда победил проект Ильи Голосова. «Нас – претендентов – было двое, и два объекта, и решили в проект Голосова ввести цилиндр, который и сейчас одиноко звучит декоративным соло. Так поступили люди, хорошие люди, но Архитектура не простила им растерзанной идеи и вернулась ко мне в блестящем дуэте нашего дома», – вспоминал Мельников.
Землей в столице ведал Моссовет, в который и стекались немногочисленные просьбы от организаций выделить участок под строительство кооперативного дома для своих сотрудников. Конец 1920-х годов – это как раз время на исходе нэпа, когда в Москве начали возводить первые кооперативы, в основном для творческой интеллигенции. Среди подобных просьб явно выделялось ходатайство, поданное Мельниковым. Тем более дом был экспериментальный: архитектор поначалу хотел сам пожить в круглом здании, а затем уже распространить этот опыт на других. Ему пошли навстречу: «В 1927 году участки для застройки раздавал от Моссовета тов. Домарев. Увидя макет нашего дома, он решительно отказал всем конкурентам от госучреждений, заявив, что легче найти участки, чем построить такой Архитектуры дом. „Отдать Мельникову участок“. Он не был архитектором и едва ли имел образование, он был просто рабочий». Так рассказывал сам Константин Степанович. Имя его в те годы гремело, потому ему и доверяли проектировать советские павильоны за рубежом. Кто ни попадя вряд ли мог рассчитывать на личный участок в Приарбатье, а Мельникову – пожалуйста! Это отражало его творческий вес и признание. Не будем забывать и о том, что Мельников спроектировал ленинскую гробницу – саркофаг, это также что-то да значило.
Еще один актуальный вопрос, способный заинтриговать современную аудиторию: разве тогда давали ипотеку? На какие средства возводился дом? Обилие заказов позволяло Константину Степановичу жить на широкую ногу. Архивные данные говорят о том, что общая стоимость строительства с материалами составила почти 38 тысяч рублей, из которых более четверти Мельников внес из своих средств. На остальную сумму он взял ссуду, пояснив: «Отсутствие у нас средств заменилось обилием архитектурной фантазии, независимое чувство уничтожило какую-либо зависимость от осторожности; интимность темы открыла грандиозные перспективы нерешенных проблем жизни; действительно реальная экономия делала девятиметровый пролет таким же опасным и не менее новым, каким была в свое время громада Флорентийского собора». Налоги с экспериментального дома также брать не стали.
Сколько этажей в доме? Сам автор остроумно посулил премию тому, кто подсчитает. Исходя из планировки, вроде как три. На первом этаже архитектор спланировал переднюю, кухню со столовой, санузел, комнаты для жены и детей, гардеробную. Второй этаж поделен на гостиную и спальню. Мастерскую Мельников разместил на третьем, где предусмотрел и открытую террасу. Чтобы не бегать туда-сюда по каждому поводу, архитектор придумал встроить в стену так называемый воздушный телефон – металлическую трубу для связи мастерской с возможными гостями, которые стучатся в калитку. Прообраз домофона! Что на самом деле нуждается в подсчете, так это количество окон – более ста тридцати, из которых к нынешнему времени уцелели не все.
Дом занимает далеко не всю площадь участка, выделенного Мельникову Моссоветом, из-за чего на земле нашлось место и объектам благоустройства – палисаднику с березами и черемухой (любимое дерево архитектора), а также лавочке со столом, площадке для городков и волейбола, огородику и небольшому саду. Каждый, наверное, хотел бы хоть денек-другой провести в этом райском месте. Многие не скрывали и восхищения его талантом, и зависти к дерзкому зодчему, придумавшему для своего дома шестиугольные окна. В частности, Игорь Грабарь признавался в 1933 году: «Никогда не завидую, но, уходя отсюда, поймал себя на чувстве зависти: хотелось бы так пожить».
Не в пример Грабарю некоторые коллеги Мельникова завидовали не белой завистью, а буквально исходили злобой, в чем только не обвиняя его: в творческой беспринципности, намеренном создании «конструктивных головоломок» и даже в классовой враждебности проекта. Дескать, чуждо все это победившему пролетариату, ведь свой дом – это самый настоящий капиталистический пережиток. В то время, когда советские люди (исключая вождей и культурно-научную прослойку) ютятся в коммуналках и бараках, строя светлое будущее, Мельников предлагает «жилую буржуазную ячейку». В общем, не архитектура это, а «оперирование всеченными цилиндрами и игра „чистых“ конструкций, идейно выхолощенная и тем самым толкающая к формалистски-эстетическому созерцанию», и не место таким домам в социалистических городах будущего с их массовым жилым строительством.
Для семьи Мельниковых это был, прежде всего, жилой дом, причем одноквартирный, что не раз подчеркивалось, только квартира эта была необычной, не соответствующей принятым стандартам и устоям. Удивление непривычной формой здания было лишь началом трудного осмысления этого пространства. Еще большее изумление охватывало переступавших порог. «Дом необычен не величиной, а сочетанием совершенно разных по форме размеров, характеру освещения помещений. Здесь создан особый пространственный мир. Попавшему сюда человеку вдруг раскрывается, сколь чудесными и постоянно изменчивыми качествами может обладать окружающее его сложное жилое пространство. „Странный“ снаружи, дом оказывается внутри еще более необычным, но при этом глубоко человечным, уютным и удобным. Архитектура здесь вступает в непрерывный активный контакт с живущими в ней, несет особую духовность, радует никогда не исчерпывающимся, но неназойливым чередованием находящихся перед взором картин», – свидетельствуют посетители ныне закрытого на ремонт дома.
Для того чтобы изумленные гости не забыли, кто является автором столь затейливого здания, над огромным окном, захватившим собою второй этаж, помещена рельефная надпись: «КОНСТАНТИН МЕЛЬНИКОВ АРХИТЕКТОР». Назвав свой дом экспериментальным, новатор Константин Мельников не лукавил. Он продолжал думать, совершенствовать, развивать, размышляя о том, как сделать жизнь человека в городе еще более удобной и красивой. Круглая форма здания предоставляет архитектору массу новых возможностей для проектирования нового содержания, то есть жилого пространства. «Не в перекор и не в угоду укладу, составившему общую одинаковую жизнь для всех, я создал в 1927 году в центре Москвы, лично для себя, дом, настойчиво оповещающий о высоком значении каждого из нас» – так он сформулировал значение воплощенной им гуманистической идеи, обозначенной как модульная система архитектора Мельникова из цилиндров.
Такой бы идее – широкий размах, международное применение, но со второй половины 1930-х годов интенсивность творческой деятельности Константина Мельникова внезапно снизилась. Отнюдь не иссякший внезапно талант или болезнь, словно выстрел охотника, прервали блестящий творческий взлет зодчего, а события совсем иного порядка. В начале 1930-х годов произошло резкое изменение культурной политики в СССР, началось ее огосударствление, и прежде всего это выразилось в централизации всех творческих союзов. Вместо независимых в суждениях и творчестве многочисленных ассоциаций и объединений художников, музыкантов и писателей были учреждены соответствующие союзы (постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года). Был среди них и Союз советских архитекторов, основанный в июле 1932 года.
Для чего это делалось? Только собрав в одном кулаке все нити управления искусством, можно добиться от его жрецов всего, чего требуется. Требовалось же от них полное сосредоточение своих сил на осуществлении сталинской государственной идеологии. Каждый вид искусства со своей стороны обязан был подчиняться ее целям, а деятели искусства – работать по единому методу социалистического реализма. Таким образом, искусство ставилось «на службу народу», созидающему материальные ценности коммунизма, а поскольку сами творческие работники материальных ценностей не создавали, они оказывались перед этим народом в большом долгу.
Вопрос о творческой свободе мог рассматриваться лишь в рамках возврата этого долга, для чего творцов необходимо было поддержать материально, обеспечить заказами. Архитекторам облегчили задачу, чтобы они не мучились поисками дальнейшей перспективы своего творчества – за членов Союза советских архитекторов все решили наверху. Цель перед зодчими ставилась конкретная и состояла из двух частей: 1) преодоление последствий формализма-конструктивизма, господствовавшего в архитектуре 1920-х годов; 2) критическое освоение классического наследия.
Как выяснилось впоследствии, это был поворот со столбовой дороги развития мировой архитектуры, соскальзывание в никуда, а поиск новых форм, которым занимались до 1932 года различные объединения и ассоциации архитекторов, и вовсе был оставлен за бортом. Сколько было архитектурных сообществ! АСНОВА – Ассоциация новых архитекторов, куда входил и Константин Мельников, ОСА – Объединение современных архитекторов, САСС – Сектор архитекторов социалистического строительства, АРУ, объединяющее архитекторов-урбанистов, ВОПРА – Всесоюзное объединение пролетарских архитекторов и даже ВАНО – Всесоюзное архитектурное научное общество.
Еще в 1920-е годы Москва воспринималась за рубежом как один из центров мировой архитектуры, прежде всего благодаря активно развивавшемуся в тот период конструктивизму. Отныне конструктивизм был объявлен вредным течением – формализмом, а его лучшие представители, такие как Константин Мельников, подверглись остракизму и порицанию, да еще и в самых оскорбительных выражениях: «Вредной погоне за мещанским украшательством, за дешевым эффектом под стать и та фальшивая, псевдореволюционная „новизна“, которую стараются насадить мелкобуржуазные формалисты от архитектуры. Самым усердным из них бесспорно является архитектор К. Мельников, „прославившийся“ уродливым зданием клуба коммунальников на Стромынке. Многие из москвичей и приезжих, попадая в этот район столицы, удивленно пожимают плечами при виде огромных бетонных опухолей, из которых архитектор составил главный фасад, умудрившись разместить в этих наростах балконы зрительного зала. То обстоятельство, что эта чудовищная затея невероятно усложнила и удорожила конструкцию сооружения и обезобразила внешний облик здания, архитектора нисколько не смущает. Его главная цель – выкинуть трюк, сделать здание „ужасно оригинальным“ – была достигнута.
А это только и нужно „новаторам“, подобным Мельникову. Тем же убогим трюкачеством и игнорированием элементарных требований целесообразности отличается мельниковский проект дома Наркомтяжпрома на Красной площади. По этому проекту (оставшемуся, к счастью, только проектом) Мельников пытается вогнать 16 этажей в землю, сочиняет открытые лестницы, ведущие прямо с площади на 41-й этаж надземной части здания (всего им было запроектировано 57 этажей), и тому подобную эквилибристику. Мельников и его соратники понимают архитектуру как беспринципное формотворчество, позволяющее строителю сколько угодно упражняться в собственном самодурстве.
<…>
Архитектор К. Мельников успел наделить московские улицы целым рядом своих немыслимых зданий. Много столетий назад художник Иероним Босх населил свои полотна скопищами чудовищных уродов, людей с птичьими головами, пернатых горбунов, крылатых гадов, отвратительных двуногих. Но даже самое болезненное средневековое воображение, самые мрачные фантазии Босха бледнеют перед творениями архитектора Мельникова, перед уродством его сооружений, где все человеческие представления об архитектуре поставлены вверх ногами. Чтобы убедиться в сказанном, достаточно посмотреть хотя бы на „дом“, который построил этот архитектор в Кривоарбатском переулке. Этот каменный цилиндр может быть местом принудительного заключения, силосной башней, всем чем угодно, только не домом, в котором добровольно могут селиться люди. И вот этакая „архитектура вниз головой“, вопреки всем ожиданиям, оказывается „последним словом“ художественного „новаторства“. Архитектор Мельников неутомимо творит новые карикатурные проекты, в которых поражает своих ахающих коллег „ниспровержением архитектурных канонов“, эти проекты становятся предметом многодумных экспертиз, а „направление Мельникова“ – предметом подражания восхищенных учеников. Исходя из неправильной позиции, работая по формалистическому методу, Мельников не станет передовым советским архитектором. Наша задача – помочь ему осознать свои ошибки», – захлебывалась в праведном гневе газета «Правда» в статьях «Архитектурные уроды» от 3 февраля 1936 года и «Какофония в архитектуре» от 20 февраля 1936 года.
Жесткие термины, использованные в процессе «творческой дискуссии» о путях развития советской архитектуры, свидетельствовали об опасности отстаивания конструктивистами-формалистами своей точки зрения. Так можно было накликать на свою голову и более жестокую кару, чем ежедневное полоскание своего имени на страницах «Правды». Хорошо еще, что конструктивистов не пересажали и Мельникова «всего лишь» отлучили от практической работы. Последним реализованным проектом стал гараж Госплана в 1936 году.
Мельников не находил себе места в новой культурной реальности, он ведь не Алексей Щусев, способный творить в любом архитектурном стиле. «Ошибок» он не осознал, несмотря на «помощь» – вал безудержной критики, оскорблений и травли. Верность однажды избранному пути в искусстве оказалась сильнее желания практической работы, хотя Константин Степанович не мог не понимать – творить ему не дадут, оттолкнув на обочину.
Так и вышло. Из Московского архитектурного института его уволили, как и из расформированной архитектурной мастерской № 7 Моссовета, которой он руководил в 1933–1938 годы. В ряде источников указывается, что «полгода проработав в мастерской № 2 Моссовета у А.В. Щусева, уволился и вышел на пенсию», но Щусева самого отлучили от профессии в 1937 году, отобрав мастерскую, так что вряд ли Мельников мог рассчитывать на его помощь. Тем не менее дом в Кривоарбатском переулке не отобрали и не снесли, хотя в 1941 году во время немецкой бомбежки Арбата повыбивало стекла в знаменитых шестигранных окнах. Благо, в доме имелось собственное бомбоубежище – подвал. «Во время войны дом не отапливался, и первую печку мы с дедушкой складывали, когда мне было 3 года, – я ему кирпичики подавала», – вспоминает внучка архитектора Екатерина Каринская. Небольшая печка ныне сохранилась в гостиной, форма ее также необычна – напоминает башню.
Отставленный от профессии, Константин Степанович нашел себя в живописи – недаром еще в детстве его хвалили! Лишь в 1949 году он получил возможность вернуться к преподавательской работе, но не в Москве (это было бы слишком в период борьбы с космополитизмом), а в Саратове, в местном автодорожном институте, на архитектурной кафедре. В это время он участвовал в конкурсе на проект интерьера Центрального универмага, частично осуществленного, что можно воспринимать как чудо.
С 1951 года Мельников преподавал в Московском инженерно-строительном институте, а с 1958 года – во Всесоюзном заочном инженерно-строительном институте. Участвовал он в 1950-е годы и в конкурсах – на монумент в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией в Москве и на Пантеон выдающихся деятелей государства, на проект Дворца Советов в Москве, но безуспешно.
Дом Мельникова в Кривоарбатском стал для своего архитектора в эти трудные годы крепостью, защитившей его от куда больших невзгод, хотя, казалось бы, что может быть трагичнее для зодчего, как отлучение от работы? Если писателя не печатают, он пишет «в стол», как Михаил Булгаков, создававший свой роман «Мастер и Маргарита» в обстановке такой же травли, как и Мельников. Умирая, Булгаков взял слово с жены, что книга увидит свет. Так и вышло, пусть автор этого уже и не увидел. Если травят художника, отказываясь выставлять его картины, по крайней мере, ему не могут помешать рисовать. Так было, например, с Робертом Фальком. Когда запрещают исполнять музыку в концертных залах, композитор, сев за рояль, может сыграть ее кому угодно в своей квартире. Как в этом случае быть архитектору: надеяться, что после его смерти отвергнутый проект воплотят? Но кто это сделает: жена, дети? Драма зодчего в том, что он работает не для себя, а для людей, которые будут жить в его творениях, и время здесь – главный попутчик. Оно очень быстро проходит, потому что запросы населения растут, подстегивая смену архитектурных стилей, и в итоге запрещенному архитектору суждено доживать век среди его бумажных проектов.
И все же Мельников – счастливый человек, несмотря ни на что. Он построил свой дом и много лет жил в нем. Почти три десятка дет спустя после начала травли о нем вспомнили. «Я один, но не одинок: укрытому от шума миллионного города открываются внутренние просторы человека. Сейчас мне семьдесят семь лет, нахожусь в своем доме, завоеванная им тишина сохраняет мне прозрачность до глубин далекого прошлого», – писал Мельников. В 1965 году, минуя защиту диссертации, ему к семидесятипятилетию присвоили ученую степень доктора архитектуры, а за два года до смерти, в 1972 году, наградили званием заслуженного архитектора РСФСР. Некоторые, правда, прочитав фамилию Мельникова в газете, удивились: разве он еще жив? Да, в России надо жить долго. Звание дали, орден, к сожалению, уже не успели. Дом же до сих пор стоит, превратившись еще и в памятник своему создателю. Другой памятник – намогильный – стоит на Введенском кладбище, где нашел свой покой Константин Степанович Мельников в ноябре 1974 года.
Если бы существовал пантеон великих архитекторов, Мельникову обязательно нашлось бы в нем почетное и законное место. Время – единственный объективный арбитр – логично расставило многое по своим местам. Где сегодня та орда критиканов и обличителей, боровшихся с архитектором и его творениями? Если их имена и вспомнят, то исключительно в связи с тем, что они нападали на него, а вот среди памятников, оставшихся в наследство от советской архитектуры, дома архитектора Константина Мельникова привлекают к себе наибольшее внимание, чем еще раз подчеркивается необходимость бережного к ним отношения.
Непривычная форма дома в Кривоарбатском переулке навевала современникам порою диаметрально противоположные ассоциации. Милее всего она оказалась поэтам, что вполне укладывается в своеобразную логику мышления творческих людей, особенно таких же авангардистов, как и сам Мельников, но в своем жанре. Например, Андрей Вознесенский, выпускник Московского архитектурного института и поэт по призванию. Автор многих причудливых рифм, он и в кривоарбатском доме почувствовал поэзию:
Душа стремится к консерватизму —
вернемся к Мельникову Константину,
двое любовников кривоарбатских
двойною башенкой слились в объятьях.
Плащом покрытые ромбовидным,
не реагируя на брань обидную,
застыньте, лунные, останьтесь, двое,
особняком от людского воя.
Как он любил вас, Анна Гавриловна!
И только летчики замечали,
что стены круглые говорили,
сливаясь кольцами обручальными.
Не архитекторы прием скопируют,
а эта парочка современников —
пришли по пушкинской тропе ампирной
и обнимаются á la Мельников.
Анна Гавриловна – любимая супруга Константина Степановича, можно сказать, его муза. О ней сохранились любопытные воспоминания: «Когда 70-летнему архитектору захотелось уехать с внучкой на Волгу отдыхать, ему пришлось тайком от жены, в одной пижаме выбираться из здания, взяв с собой маленький рюкзачок, в котором были лишь сапоги, смена белья, подушка-думка и пачка геркулеса. Анна Гавриловна не была красива, но считала себя красавицей. Лицо у нее было привлекательным, но низ – тяжелым и грузным. Рассказывают такую историю. Однажды Константин Степанович вышел из дома по делам, проходя по Арбату, увидел, что в магазине продают какой-то нужный продукт, и занял очередь, после чего сказал людям, что пойдет по делам, а вместо него придет его жена. „А как же мы ее узнаем?“ – зароптал народ. „Она… – Мельников задумался, – совершенно необыкновенная женщина!“ И вот минут через десять входит в магазин Анна Гавриловна. Оглядывается по сторонам. „Вам сюда!“ – практически хором говорят все люди, стоящие в очереди: перепутать ее с кем-то иным было невозможно». Анна Гавриловна пережила супруга на три года, скончавшись в 1977 году.

И кто только не заходил в эту дверь… Фото А.А. Васькина. 2024 г.
Хранителем наследия зодчего стал его сын Виктор Константинович (1914–2006), избравший стезю живописца, работавшего в различных направлениях. Некоторые его работы хранятся в Третьяковской галерее. Изучая древнерусскую живопись, Мельников-младший был и прекрасным копиистом, создав в 1950-е годы копии фресок Ферапонтова монастыря. Не менее важным делом своей жизни Виктор Мельников считал сохранение в неприкосновенности и во всей его подлинности дома своего отца. Главной мечтой наследников стало создание в доме музея. Много различных препон возникло на этом пути, пока в 2014 году не было озвучено долгожданное решение о новом московском музее. Государственный музей Константина и Виктора Мельниковых стал филиалом Музея архитектуры имени Щусева, и это оказалось идеальным вариантом, устроившим и наследников зодчего, и музейщиков.

Кривоарбатский пер., 10. Реставрация дома. Фото 2024 г.
Кстати, внучка зодчего Екатерина Каринская вспоминала: «В детстве я очень рефлексировала по поводу нашего дома, мало того, что носила очки, но ведь еще и жила в здании, которое иначе как „силосной башней“ и „консервной банкой“ никто из моих одноклассников не называл. Я ходила в школу мимо Морозовского особняка и считала его завитушки высшим проявлением красоты. И вот, когда была в третьем классе, собралась с духом и высказала деду все, что накопилось у меня в душе: „Ну и зачем ты это построил? Хотя бы ракушек каких-нибудь для красоты прикрепил!“ Если бы это услышал отец, он бы меня просто выпорол, но дед только потрепал ласково по голове: „Ну подожди, внучонок, деньжатами разживемся и прилепим…“» Архитектуру Константин Степанович боготворил, называя ее «моя Красавица».

Кривоарбатский пер., 10. Мемориальная табличка. Фото 2024 г.
Учреждение музея позволило провести и первое масштабное исследование дома и участка. Выяснилось, что здание находится в «ограниченно работоспособном состоянии», то есть и фундаменты, и стены, и столбы признаны работоспособными, и что при условии надлежащих условий эксплуатации и надлежащего ремонта в доме можно организовать музей, но «с жесткими ограничениями по числу и суммарному весу посетителей». Кроме того, «важнейшим фактором сохранности Дома Мельникова является соблюдение нормативного температурно-влажностного режима в его помещениях». Таков был вывод международных экспертов в 2019 году.