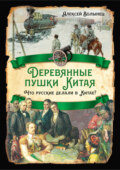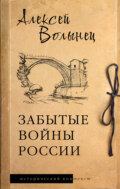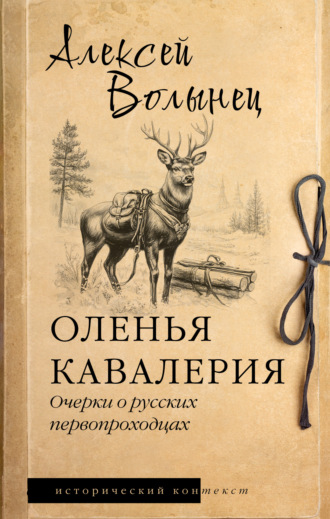
Алексей Волынец
Оленья кавалерия. Очерки о русских первопроходцах
Первый перевод «грамоты» Ивана Петлина лишь в 1676 году сделает китайский пленник (о нём наш рассказ ещё впереди) Тенур, он же «Тимофей Иванов». Сделает во время подготовки нового русского посольства в Пекин. Только тогда в Москве узнают, что же давным-давно писал далёкий китайский император Ваньли. На русском языке XVII века этот перевод звучит так: «Валли китайский царь говорил руским людем, что с торгом приходите и торгуйте, и выходите, и апять приходите. На сем свете ты, великий государь, и я, царь, не мал, чтоб меж нами дорога чиста была, сверху и снизу ездите, и что доброе самое привезёте, и я за то камками добрыми пожалую вас…»
Делавший перевод «китайский казак» был явно не искушён в дипломатических оборотах, оригинал же грамоты не сохранился – пропал в пыли российских архивов XVIII столетия. Не сохранились и китайские оригиналы в Пекине – они сгорели три с лишним века назад, когда столицу «империи Мин» захватывали маньчжуры.
Зато до наших дней дошли записанные в Москве подробные рассказы Ивана Петлина о китайской столице, её диковинках и богатствах.
«А товаров всяких, каменья дорогово, и золота, и серебра, и бархатов золотых, и отласов, и камок всяких много, опричь сукон, а сукон мало, а пряных зелей и питий заморских и овощей всяких много, и пива и вина много…» – рассказывал Иван Петлин, очень точно примечая все особенности китайского рынка той эпохи. «Бархатов», «атласов», «камок», то есть разнообразного шёлка, в Китае всегда было в изобилии, а вот «сукно», то есть шерстяную ткань, китайцы тогда не делали.
Китай и четыре века назад был огромным государством с владениями, протянувшимися до тропиков. Потому на рынках Пекина русских посланников, прибывших из суровой Сибири, изумило разнообразие продовольственных товаров. «В изобилии всяких овощей, винограду всякого и пряных зелей всяких, сахаров розных, и гвоздики, и корицы, и анису, и яблоков, и арбузов, и дыней, и тыков, и огурцов, и чесноку, и луку, и ретьки, и моркови, и посторнаку, и репы, и капусты, и маку, и мушкату, и фялки, и мильдальных ядер, и ревень есть, а иных овощей мы и не знаем какие…» – даже сквозь века заметно искреннее изумление Ивана Петлина.
«А пиво как русское, и кабаков много…»
«Томский городовой казак» был явно не обделён литературным талантом. «А в ряды пойдешь, ино манною пахнет!» – ярко описывает он даже обонятельные впечатления от торговых лавок Пекина с остро пахнущими пряностями и благовониями. «А во храмах у них болваны деланы глиняные да вызолочены з головы и до ног сусальным золотом, страсти от них возьмут!» – живописует Иван Петлин сильные впечатления от буддийских и конфуцианских храмов с разнообразными статуями.
Петлин умудрился в нескольких словах даже охарактеризовать особенности стиля и ритма жизни китайской столицы тех лет, и наиболее бросающиеся в глаза особенности её обитателей: «Все люди торговые, а воинских мало. А люди де добре торопливы и мухомуроваты в лице, а женской пол чист в лице…» Слово «мухоморый» в том столетии было синонимом желтоватого оттенка, столичные же китаянки, следуя моде, отбеливали свои лица.
Не забыл русский гость осмотреть и со знанием дела описать даже злачные места китайской столицы. «А питье там всякое, мед и вино, а пиво как русское, и кабаков в городе много. А на кабакех де есть голыши и бляди…» – рассказывал Иван Петлин в Москве о Пекине, возможно вспоминая какие-то свои приключения во время короткого пребывания в столице Китая…
Не удивительно, что столь яркий и необычный рассказ о самой большой и всё ещё малоизвестной стране Дальнего Востока стал, пожалуй, единственным русским бестселлером в Западной Европе XVII века. Князь Пожарский сдержал обещание, записи Петлина о Китае передали английскому послу – уже в 1625 году их переведут и издадут в Лондоне. В 1628 году последуют публикации на латинском и немецком языках, затем на французском, шведском и голландском.
Первые живые сведения о Китае оценят и в Москве. Казак Иван Петлин получит щедрую награду от царя – повышение жалованья на целый рубль, 23 рубля премии и золотую чарку на память.
Глава 8. Китайский «язык» Ерофея Хабарова
Как русские первопроходцы на Дальнем Востоке впервые встретили китайца
Выходцы из Китая и люди древней Руси впервые встретились ещё в эпоху Золотой Орды и монгольских завоеваний, прокатившихся по всей Евразии от Жёлтого до Чёрного моря. Однако время не сохранило подробности тех встреч, состоявшихся почти восемь веков назад. О деталях изначальных контактов наших предков с китайцами-ханьцами мы сегодня можем только догадываться. Зато архивные записи XVII века сберегли для нас подробности первой встречи на берегах Амура русских первопроходцев с представителем самого многочисленного этноса Дальнего Востока.
«И те языки в роспросе мялися…»
На рассвете 3 апреля 1652 года расположившийся у берега Амура отряд первопроходцев Ерофея Хабарова неожиданно подвергся атаке облачённых в железные доспехи всадников. Двум сотням русских, пришедших сюда по следам драматичной эпопеи (см. главу 5 «Людоед с Севера») Василия Пояркова, пришлось в тот день отбивать натиск почти двух тысяч вооруженных противников. «И мы, казаки, дрались з зори и до сход солнца…» – рассказывал позднее сам Хабаров о том долгом бое.
Русские оказались боеспособнее, отразив первый удар, они перешли в контрнаступление. Умело используя три пушки и ручные пищали, первопроходцы разгромили нападавших. «Божиею милостию и государевым счастьем и нашим радением их, собак, побили многих…» – позднее докладывал якутскому воеводе Хабаров. Бой происходил в трёх верстах от современного села Ачан в Амурском районе Хабаровского края.
Предводитель горстки первопроходцев, наверное, очень бы удивился, узнай, что спустя столетия земли, где он жестоко грабил и героически воевал, назовут по его прозвищу. Само прозвище Хабаров происходит от слова «хабар», которое три с лишним столетия назад у наших предков означало удачу, везение, прибыток или поживу. Тот день, 3 апреля 1652 года, оказался для казаков Хабарова действительно и удачным, и с поживой – первопроходцы не только победили, но и взяли богатую добычу.
«830 лошадей з запасы хлебными, да отбили 17 пищалей скорострельных, да 2 пушки железные да 8 знамён…» – гордо перечислит Ерофей Хабаров свои трофеи в донесении российским властям. Среди захваченного оказалось и несколько «языков», то есть пленников, у которых можно было добыть необходимые сведения о противнике. Вообще такой «язык» для русского языка это не просто омоним, а один из очень немногих военных терминов, сохранившийся в нашей речи с неизменным значением и звучанием от средних веков до наших дней.
«И тех языков яз, Ярофейко, роспрашивал накрепко. И те языки в роспросе мялися…» – доносил Ерофей Хабаров в Якутск о последствиях боя. Для наших предков такая формулировка была стандартной и более чем понятной, ёмко означая, что пленники давать сведения отказывались и информацию у них вырывали под пыткой.
Информация же была крайне нужна – отряд Хабарова к тому времени уже третий год покорял берега Амура, хорошо изучив местные племена, но атаковавшие первопроходцев «люди конные и куячные» (т. е. в «куяках» – железных доспехах) были новым противником. Первопроходцы уже знали, что это «войско царя богдойского» – то есть армия маньчжурского императора, пришедшая из большой страны, лежащей далеко к югу от Амура. О новом сильном противнике и о землях к югу срочно требовалось узнать как можно больше.
И вот эти сведения неожиданно согласился добровольно дать один из «языков», внешне немного отличавшийся от прочих пленников. «Яз де вам, казакам, скажу всю свою правду, чево де таить…» – весьма психологично передаёт тот момент донесение Хабарова, написанное для якутского воеводы 366 лет назад.
Вот так драматично началась самая первая встреча русских первопроходцев Дальнего Востока с настоящим китайцем.
«Даурские бабы» и «никанский мужик Кабышейка»
Странный пленник рассказал русским не только о походе маньчжурских-«богдойских» войск против появившихся на Амуре русских, но и поведал личную историю. О том, что родился он далеко к югу от Маньчжурии, в совсем другом государстве – в «Никанской земле», расположенной за большой пограничной рекой, впадающей в море. «А людей по той реке много, – передают записи Хабарова рассказ китайца, – а людям тем зов никаны, лица у них черные, бородаты. А другая де река есть неподалеку, а по той де реке живут никаны ж многие люди, да город на той реке стоит, а в том де городе живет царь никанской Зюлзей. Да иные де городы по той реке есть многие, все каменные. А бережемся мы от богдойского царя, что де нас, никанских людей, богдойской царь воюет, а всей земли овладеть не можит, потому что та Никанская земля несказано велика…»
Действительно, в те десятилетия «богдойский царь», то есть предводитель маньчжурских племён, начал завоевание Китая. Немало китайцев, пленённых на той войне, попадало на север – маньчжуры делали их рабами либо заставляли служить в своих войсках. Именно таким маньчжурским пленником, насильно зачисленным в армию, и был китаец, впервые встретившийся русским и допрошенный Ерофеем Хабаровым.
Понятно, почему пленник не стал запираться и дал информацию о маньчжурах – китайцу незачем было хранить верность своим поработителям. Глава русских первопроходцев на Амуре сразу сообразил, что в его руки попал очень ценный источник о совсем неведомых землях. Хабаров тут же попытался выжать из пленника все сведения о неизвестном, но явно богатом и развитом государстве с множеством населения и «каменных городов».
Необходимо понимать, что разговор Хабарова и китайца происходил при переводе, фактически через пять наречий! Русские первопроходцы в те годы ни маньчжурского, ни тем более китайского языков не знали. «И у нас того языка не знаем, толмачей нет, лише переводом те даурские бабы сказывают…» – так охарактеризовал непростую лингвистическую ситуацию сам Хабаров.
Для общения с «иноземцами» первопроходцы традиционно использовали в качестве переводчиц местных женщин, попавших к ним в плен, либо присоединившихся добровольно к столь удачливым добытчикам. Некоторые амурские племена были родственны маньчжурам и могли частично понимать их язык. Пленённый маньчжурами китаец, вероятно, тоже что-то знал из маньчжурского наречия, но едва ли хорошо. В общении с завоёванными китайцами сами маньчжуры обычно использовали северокитайский диалект, который от диалектов обитателей юга Китая отличается больше, чем, например, русский язык от польского.
Одним словом, можно только удивляться, как при такой мешанине – последовательном переводе с какого-то китайского диалекта на маньчжурский язык, с маньчжурского на «даурский», и лишь потом на русский – Хабаров хоть что-то понял из рассказа китайца по имени Кабышейка.
Кабышейка или «никанский мужик Кабышейка» – именно так через многоступенчатый перевод русские первопроходцы передали звучание, а может, значение, имени, а может, прозвища, китайского пленника. Как его в реальности звали на родном языке, мы уже никогда не узнаем.
«В нашей Никанской земле родятся шелки разные…»
До встречи с необычным пленником никто из первопроходцев ничего не знал и не мог знать о Китае. Ведь в ту эпоху даже в столичной Москве профессиональные дипломаты из Посольского приказа обладали крайне скудными сведениями о той части Азии. Однако, несмотря на отсутствие знаний и все лингвистические препоны, Ерофей Хабаров со слов «наканского мужика Кабышейки» дал поразительно точное описание текущего положения Китая и его экономической географии.
«В нашей Никанской земле родятся шелки разные, а делают из шелков из тех камки и атласы, и бархаты, а бумагу де хлопчатую сеют, а ис той бумаги делают кумачи…» – пересказывал первопроходец слова китайца в донесении якутскому воеводе. Хабаров и его люди никогда не видели, как растёт хлопок или зреет бабочка в шёлковом коконе, но слова китайца, прозванного Кабышейкой, поняли верно.
Сами термины «никанцы», «Никанская земля» или «Никанское царство» возникли именно из-за перевода показаний Кабышейки через маньчжурский язык. «Нихань» или «никань» – так маньчжуры презрительно именовали завоёванных китайцев, которые сами себя называли «хань» или «ханьцы». Хабаров в своём донесении невольно перенёс маньчжурский термин в русский язык. Он же, со слов Кабышейки, верно отметил, что у обитателей «никанской» земли «лица черные, бородаты» – южные китайцы, действительно, смуглее и бородатее своих северных сородичей.
В донесении Хабарова упоминается и имя воюющего с маньчжурами «царя никанского» – Зюлзей. Удивительно, но тут первопроходец, несмотря на трудности перевода и абсолютное несовпадение фонетики русского и китайского языков, смог довольно близко передать реальное звучание иноземного имени. Ведь речь явно идёт об одном из последних императоров династии Мин по имени Юйцзянь. За несколько лет до встречи Хабарова и Кабышейки на берегах Амура, далеко на юге Китая «царь Зюлзей», он же император Юйцзянь, безуспешно, но героически пытался сопротивляться нашествию маньчжуров…
Перевод через несколько наречий породил страшную путаницу не только личных, но и географических имён, перечисленных Кабышейкой. Им названы всего три реки Китая, две самые большие, «Бучен» и «Шунгуй», и третья, оставшаяся в записях Хабарова безымянной – «река невелика», возле которой «жемчуг в раковинах находят».
На самом деле, всё становится сразу ясно, если взглянуть на современную географическую карту Китая. Реку «Бучен» пленный Кабышейка охарактеризовал как «порубежную», то есть пограничную, между маньчжурскими владениями и собственно китайским царством. Из иных исторических источников нам известно, что такой водной границей считалась река Хуанхэ. Имя второй перечисленной Кабышейкой реки – «Шунгуй» – даже на слух совпадает с Цхэн-гун, именно так в некоторых диалектах южного Китая называется Янцзы.
В записях Хабарова обе реки текут «неподалёку». Если смотреть из амурских далей, Хуанхэ и Янцзы, действительно, протекают довольно близко. Но скорее всего это «неподалёку» в показаниях Кабышейки означало параллельное течение и просто исказилось при переводе «даурскими бабами» через множество диалектов.
Третья река, оставшаяся безымянной, для первопроходцев Хабарова оказалась самой интересной. Ведь помимо ценных мехов, русские люди, осваивая Дальний Восток, пытались найти на новых землях золото и серебро. Несложно догадаться, какой алчностью зажглись глаза казаков, когда пленный Кабышейка произнёс слова: «Да в той же земли Никанской в нашей есть де река, пала из болот, а впала устьем в море, а та река невелика, на той реке есть камень, и в том де каменю та золотая гора. А ломают ту руду золоту ломами железными, и у той де золотой руды стоит город каменной… В той реке находят в раковинах жемчуг, да и серебро на той реке родится».
Ерофей Хабаров и золотая Гора Будды
Это часть показаний Кабышейки стала самой загадочной для позднейших историков. Диковинная «золотая гора», добываемое ломами золото и странный «камень на реке» – всё это казалось непонятной фантасмагорией. Звучали даже предположения, что «Никанское царство» это вовсе и не Китай, а какое-то неизвестное или просто выдуманное государство.
Однако всё становится на свои места, если предположить, что третья река в показаниях Кабышейки – это именно третья по величине и значению водная магистраль Китая, река Чжуцзян. Она действительно «невелика» по сравнению с Хуанхэ и Янцзы, а её имя с китайского и переводится как «Жемчужная река». Неумелые переводчицы из «даурских баб» с берегов Амура, вероятно, не поняли, что рассказы Кабышейки про жемчуг «в той реке» относятся не только к экономике, но и к собственному имени третьей водной артерии Китая, протекающей на самом юге страны.
Если предположить, что Кабышейка рассказывал именно про «Жемчужную реку» – Чжуцзян, то на её берегах без труда отыщутся и загадочные «камень» с «золотой горой». Собственно «камень» и «гора» в русском языке XVII столетия вообще были синонимами. А на берегах реки Чжуцзян и ныне стоит город Фошань – в переводе с китайского его имя означает «Гора Будды». В ту эпоху, когда Ерофей Хабаров допрашивал Кабышейку, именно город Фошань был центром металлургии Китая, там же располагались и основные ювелирные производства.
Вероятно, пленный китаец из-за несовершенства переводчиков и многоязычного пересказа просто не понял, что от него хотят, – Хабаров интересовался природными залежами драгметаллов, а китаец рассказал про главный источник ремесленных изделий из золота и серебра на территории Китая. В многоступенчатом переводе «даурских баб» рассказ про ювелиров превратился в «ломают ту руду золоту ломами железными», а город по названию «Гора Будды» на «Жемчужной реке» стал «золотой горой» на реке, в которой «находят жемчуг»…
Любопытно, что, тщательно записав первый рассказ о Китае и отослав его в Якутский острог и далее в саму Москву, Ерофей Хабаров даже не догадывался, что речь идёт о страшно далёкой географии. Берег Амура, на котором происходил допрос первого китайца, от устья «Жемчужной реки» и «золотой горы Будды» отделяло свыше трёх с половиной тысяч вёрст. Вероятно, Хабаров даже раздумывал о возможном походе в богатые китайские земли – ведь китайцев успешно завоёвывали те «богдойские» маньчжуры, которых только что победили его казаки. Реальные размеры и многолюдность Китая пришедшие на Амур русские люди осознают позднее…
Для первопроходцев даже в XVII веке существовали подробные инструкции-«наказы» от государственных властей. Согласно таким «наказам» попавших в плен новых «иноземцев» из ранее неведомых земель и племён требовалось отправлять в Якутск, чтобы там, в главном административном центре всех дальневосточных владений России, можно было подробнее узнать о языке и жизни ещё неведомых соседей. То есть Хабаров был обязан отправить «никанского мужика Кабышейку» с берегов Амура на берега Лены – однако никаких документов о дальнейшей судьбе первого китайца, встреченного первопроходцами, историки не нашли. О судьбе человека, сменявшего маньчжурский плен на русский, мы можем только гадать – погиб ли он, умер ли по дороге, или всё же попал в Якутск, но документы о нём не сохранились до наших дней…
Зато нам документально известны факты о других «никанских мужиках», встретившихся русским казакам на Амуре спустя два года после первого контакта Ерофея Хабарова с китайцем. Один из этих «никанцев» в итоге через Якутск доберётся до самой Москвы, став первым в истории выходцем из Китая, прогулявшимся по улицам российской столицы.
Глава 9. Три китайских казака и шпион из «Никанского царства»
Как русский посол сравнивал китайцев с украинцами, а маньчжуров с поляками
Первая, документально зафиксированная встреча русских первопроходцев с представителем китайского народа состоялась 3 апреля 1652 года, когда Ерофей Хабаров на берегах Амура с удивлением расспрашивал о далёком Китае «никанского мужика Кабышейку» (см. предыдущую главу). Спустя три года первые три китайца впервые поселились на дальневосточных землях нашей страны – им предстояло оставить небольшой, но яркий след в русской истории. Достаточно сказать, что первый побывавший в Москве китаец едва не начал войну с Пекином…
«Никанские мужики», или Три китайских казака
В апреле 1655 года сменивший Хабарова казачий атаман Онуфрий Степанов отправил с берегов Амура в Якутск «соболиную казну» и вместе с ней «Никанского царства полонеников». В письме якутскому воеводе глава амурских первопроходцев сообщал, что эти «никаны», то есть китайцы, были пленены маньчжурами и привезены ими «в холопы» на Амур, где и были отбиты русскими казаками.
«И те никанские люди, – сообщал Онуфрий Степанов в стилистике той эпохи, – били челом государю царю всеа Руси и подали челобитные на великой реке Амуре мне, Онофрейку, о крещении, чтобы их государь пожаловал, велел привесть в православную христианскую веру по правилу святых апостол и святых отец. И те никанские люди в нынешнем году по их челобитью в православную христианскую веру приведены…»
Благодаря расспросам Ерофея Хабарова русские уже немного знали о «Никанском царстве», лежащем далеко к югу от Амура, на берегах рек Хуанхэ и Янцзы. Знали и о том, что большинство «никанцев»-китайцев враждебны племенам маньчжуров, с которыми русским первопроходцам уже приходилось не раз сталкиваться в боях на берегах Амура.
В итоге летом 1655 года казаки Трофим Никитин и Богдан Габышев привезли из Приамурья в Якутск трёх китайцев. Архивные документы сохранили даже их китайские имена, писарь Якутского острога попытался передать звуки неизвестного ему языка русскими буквами – «Зовут по бусормански Тенур да Чагу да Хиштко, а во крещение им имяна Тимошка да Митька Ивановы, да Васька Марков…»
Три китайца, ставших Тимофеем, Дмитрием и Василием, как «иноземцы Никанского царства выходцы» тут же подали воеводе Якутского острога челобитную с просьбой «поверстать их в государеву ленскую службу» – то есть зачислить казаками для службы к востоку от реки Лены. Так среди русских первопроходцев, бывших потомками и великороссов, и «литвинов» (то есть поляков, украинцев и белорусов) и различных «татар», и местных дальневосточных народов, якутов и «тунгусов», впервые появились и три китайских казака…
«И по се время плачючи живут…»
Удивительно, но дальнейшая судьба всех трёх казаков из Китая частично прослеживается по архивным документам. «Тимофей Иванов», он же китаец по имени Тенур, в том же 1655 году был отправлен из Якутска прямо в Москву. В столицу новоявленного казака отправили потому, что он был «учён китайской грамоте» – вероятно, это был первый в истории выходец с берегов Янцзы и Хуанхэ, прогулявшийся по улицам Москвы.
В столице России «Тимошка Иванов сын Никанской» прожил около двух лет, затем был зачислен в «конные казаки» и вернулся обратно на дальневосточные земли России. Именно благодаря ему в Москве окончательно поняли, что «Никанское царство» из донесений Ерофея Хабарова это собственно и есть далёкий Китай, а не какая-то ещё одна новая, ранее неизвестная страна…
Кстати, в народном сознании «Никанское царство» так и не слилось с Китаем. Зато после увлекательных рассказов первопроходцев Хабарова и появления неведомых ранее «никоничан» оно своими гипотетическими богатствами прогремело и прославилось на всю Сибирь. Уже в следующем столетии на дальневосточных рубежах России возникли фантастические сказы и легенды о некой чрезвычайно роскошной и благополучной стране – притаившемся далеко за Китаем счастливом «Никанском царстве», где все сыты и богаты.
Но вернёмся из народных фантазий к реальным китайцам, попавшим на дальневосточные земли России 363 года назад. Из документов былых столетий кое-что мы знаем и о дальнейшей судьбе двух других «китайских казаков» – «Митьки Иванова» и «Васьки Маркова». Удивительно, но о них упоминает один из самых знаменитых персонажей русской истории XVII века – сам глава церковного «раскола» протопоп Аввакум!
Мятежный Аввакум, хорошо знакомый царю и всем высшим сановникам государства, в те годы был сослан в Забайкалье и находился в свите воеводы Афанасия Пашкова, который должен был готовить дальнейшее завоевание берегов Амура. Именно тогда среди местных казаков ссыльный протопоп и встретил двух «Никанской земли иноземцев».
Образованный Аввакум именовал китайцев не «толмачами», а почти по-современному – «перевотчиками». Принявшие православие люди из далёкого Китая заинтересовали любознательного и склонного к литературным записям протопопа. Наверняка заметил он у них и неизбежную в таких условиях тоску по далёкой родине. Вскоре Аввакум отправил в Москву письмо саму царю, в котором рассказал и о китайцах-«перевотчиках», посетовав, что они «толмачеством государю собирали казны многие лета, а и по се время плачючи живут…»
Одна Россия и два Китая
Когда русские люди впервые массово столкнулись с теми, кого мы сегодня зовём китайцами, то есть с этническими ханьцами, к югу от Амура находилось, в сущности, два китайских государства. Первое, более северное и близкое к границам России государство маньчжуров, уже захвативших Пекин, позднее историки назовут «империя Цин», а русские люди XVII века называли либо «богдойским царством», либо незатейливо – «Китайским государством». Тот же Китай, который лежал гораздо южнее, на берегах реки Янцзы, историки называют «империей Мин», а наши предки три с половиной века назад чаще всего, после донесений Ерофея Хабарова, именовали «Никанским царством».
Пока Россия при царе Алексее Михайловиче готовилась к завоеванию Киева на западе и Камчатки на востоке, маньчжуры в Пекине готовились окончательно захватить весь лежащий к югу Китай. Нашим предкам было не просто разобраться с таким двойным Китаем, тем более что один постепенно завоёвывал другой. Необходимо было понять и разницу между северным, маньчжурским Китаем и южным ханьским.
Маньчжуров и их китайских подданных тогда в России называли «богдойцами» или даже «богдойскими татарами», а более южных китайцев, ещё не покорившихся маньчжурским завоевателям, обычно именовали «никанцами». Путаница в XVII веке была такая, что порою «китайским языком» русские люди называли маньчжурский язык, либо, в лучшем случае, некоторые китайские диалекты.
Чтобы как-то разобраться с двумя Китаями, бояре царя Алексея Михайловича составили справку о новых дальневосточных соседях нашей страны: «А от Китайского государства на левую сторону к море-океану лежит великое государство, что китайским языком нарицают Никанское, иные же нарицают Великая Хина… И то Государство Никанское паче Китайского Государства людьми и богатством, златом и серебром и камением драгим, шелком, камками и всякими благовонными травами и шафраном изобилсвует… И ныне он, никанской царь, с китайским царем воюются, а китайский царь чрез свое Китайское царство русских людей с товары для торгу к никанцам не пропущает…»
Чтобы русский царь легче понял разницу между маньчжурами и китайцами, ему объяснили на самом близком и доступном примере: «Есть природная недружба меж богдойцами и никанцами, как меж поляками и черкасами…» Черкассами тогда в России именовали украинских казаков, как раз в ту эпоху под предводительством Богдана Хмельницкого воевавших против польского короля.
Автором такого неожиданного сравнения был Николай Спафарий, переводчик Посольского приказа (предшественника Министерства иностранных дел). Именно Спафарий как раз готовился возглавить большое русское посольство в Пекин и собирал все доступные сведения о наших дальневосточных соседях.
В столицу «государства Китайского» наш посол отправился весной 1675 года. За всю отечественную историю это было лишь третье русское посольство в китайские земли, но самое многочисленное и представительное. Николай Спафарий ехал в Пекин во главе 150 человек. Вот только среди них не было ни одного знатока соответствующих языков – ни маньчжурского, ни китайского. Переводчик ждал посольство далеко к востоку от Москвы – им был уже постаревший, проживший в России двадцать лет китайский казак «Тимофей Иванов», он же «никанский мужик Тенур».
«Толмач богдойского да никанского языков…»
Путь посольства Николая Спафария из Москвы к истокам Амура занял почти 12 месяцев, и встреча с «толмачом»-переводчиком состоялась только в марте 1676 года. О своём посольстве в китайские земли Спафарий позднее составит обширные записки, фактически подробный дневник – но вот имя переводчика на его многочисленных страницах не прозвучит ни разу! Хотя «мой толмач» будет неоднократно упомянут послом и в дневниковых записях, и во всех отчётах, в том числе предназначенных лично царю всея Руси.
Действительно, посольство в Пекин было бы просто невозможно без активного и ежедневного участия переводчика с маньчжурского и китайского языков. Но по итогам дипломатической миссии Николай Спафарий сознательно не хотел упоминать имя «толмача» – слишком уж драматичными оказались связанные с переводчиком события, едва не кончившись трагедией и большой войной Москвы и Пекина…
«Служилый человек, толмач богдойского да никанского языков, родом он был никаниченин и выехал на твои, великого государя, земли тому лет с тридцать назад, как была война по Амуру с китайцами…» – так позднее рассказывал царю вернувшийся из Пекина посол Спафарий. «И крестился и служил тебе, великому государю, на Москве и в Тобольске, и в иных сибирских городах везде верно, и никакая измена за ним не объявлялась, и оттого я из-за скудости толмачей взял его…» – пояснял посол ситуацию с переводчиком.
Хотя имя не прозвучало, но такие детали биографии «никаниченина» позволяют идентифицировать его с абсолютной точностью – это именно «Тимофей Иванов», первый китаец, побывавший в Москве. Посольство в Пекин вместе с Николаем Спафарией стало для китайского казака первым за несколько десятилетий приближением к далёкой Родине, лежавшей где-то на юге от реки Хуанхэ.
Хотя Пекин тогда был столицей маньчжуров, а не китайцев-ханьцев, но сородичи «Тимофея Иванова» встречались на всём пути посольства – маньчжуры, завоёвывая Китай, многих пленников переселяли на север. Едва русское посольство пересекло границу, как опытный дипломат Спафарий заметил, что его переводчик слишком уж эмоционально реагирует на рассказы маньчжуров об их победах над китайцами.
«Здесь по селам живут многие никанцы у китайцев в холопстве, и они сказывали моему толмачу, что китайцы лгут, что якобы победили никанцев, наоборот они побеждены никанцами дважды…» – так записал Спафарий в дневнике. Здесь надо помнить, что «китайцами» наши предки тогда называли именно маньчжуров, а тех, кого мы сегодня именуем китайцами, звали «никанцами».
Посольство Николая Спафария ехало в Пекин как раз в тот момент, когда на юге Китая вспыхнуло последнее яростное сопротивление маньчжурским завоевателям. Восставшие ханьцы тогда, действительно, одержали несколько побед над маньчжурскими войсками и отбили у захватчиков шесть провинций страны из пятнадцати, при том самых населённых и богатых. В 1675–1676 годах власть маньчжуров над Поднебесной реально висела на волоске – было достаточно ещё небольшого удара по маньчжурской империи, чтобы она рухнула как карточный домик.
Такой соломинкой, ломающей хребет верблюду, могла стать для маньчжурского Пекина открытая война с Россией – к тому времени неурегулированный вопрос с границей в Приамурье породил тянувшийся уже четверть века вялотекущий конфликт наших первопроходцев с маньчжурскими соседями. Но ни Москва, ни Пекин войны не хотели, обоим государствам срочно требовалась спокойная общая граница – маньчжурам, чтобы, не отвлекаясь, завершить наконец покорение богатых земель к югу от Янцзы, а русским, чтобы бросить все силы первопроходцев на окончательное освоение изобильных драгоценными мехами пространств на севере Дальнего Востока.